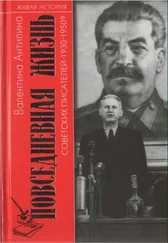Он повернул направо и пошел по набережной. Вырвавшись из-под ледяных оков, вода невидимо текла по отделанному гранитом ложу. Федор любил Москву-реку той благодарной любовью, которая неизменно возвращалась к нему, наполняя силами и придавая уверенность в себе. На той стороне горделиво и символически возвышался университет. Хрузов не торопился домой, он с непритворным удивлением ощущал, как исчезает запустение, царившее в его душе, и водворяются необыкновенное спокойствие и ясность.
События несли Хрузова вперед, заставляя участвовать в них, набираться силенок и выделять в своем характере что-то похожее на несгибаемую отвагу, которую Федору, изначала — «небожителю», приходилось использовать на нужды самозащиты. Ситуация — вот что важно было держать под контролем. Страх потерять даже саму возможность бороться за свой приоритет в науке Хрузов испытывал так сильно, что делал неимоверные усилия, чтобы продолжать эту неравную битву с Мореновым и Ледяшиным, хотя никогда прежде он не питал ни малейшего пристрастия к склокам и интригам. Но что делать — жизнь заставила!
Мир словно затерялся во мраке, лишь где-то вдалеке брезжил, заманивая, огонек удачи. Хрузов поставил на карту докторскую диссертацию, как ставят остатки состояния промотавшиеся игроки: с отчаяньем, надеждой и фанатической верой в успех.
Он должен прийти, успех, Федор свято в это верил, но пока все складывалось не слишком удачно.
Где-то с середины апреля и Моренов, пробудившийся древний вулкан, ввязался в склоку. Его агрессивность переходила в откровенную неприязнь. При этом Владимир Маркович проявлял такую изобретательность, что Хрузов просто терялся, не зная, отдать ли должное его выдумке и плюнуть на все, уволиться, укрыться в каком-нибудь отраслевом НИИ и переждать бурю там или остаться, но смириться, отказаться от докторской диссертации и вести обыкновенную служебную деятельность кандидата наук… Но потом к Федору неизменно возвращались убежденность и силы бойца, и он терпеливо сносил удары.
К делу подключались все новые и новые люди, из-за чего оно обрастало подробностями, распухало, как катящийся снежный ком, так что в нем трудно было разобраться, тем более что-либо понять. Не этого ли добивались противники Хрузова? Скорее всего этого. Они хотели неопределенности , и они добились ее.
Как правило, всюду выносились мнения, но никак не решения. Ученый совет никак не мог выявить отношение Ледяшина к собственному заявлению: последний то раскаивался и отрицал все, что в нем было написано, то, вдогонку раскаянью, еще больше ожесточался и кричал, что его ограбили, а сейчас принуждают молчать и все обстоит именно так, как он изложил с самого начала.
Одного не мог понять Хрузов: как только Ледяшину верили?! Но ведь верили же! Всерьез рассматривали его письменные измышления, с внимательной, хоть и брезгливой миной на лицах выслушивали его устные доводы. И Федор догадывался, что это происходит потому, что не Сергей ведет главную тяжбу, а другой, более солидный и именитый. Его авторитет делал погоду. Но пока еще Владимир Маркович выступал в роли стороннего поборника истины, защитника Ледяшина, и такая бескорыстная позиция уважаемого ученого приводила к тому, что Хрузов исподволь терял репутацию, вернее, приобретал дурную, черная молва опережала события и затмевала то, ради чего, собственно, шла борьба. В какой-то момент было позабыто, что речь в конечном счете идет об оригинальности результатов в конкретной докторской работе. Все внимание оказалось сосредоточено на личности самого автора — а не склочник ли он? — на его месте в коллективе лаборатории, который с эффектом горных катаклизмов раскололся надвое — сторонников Моренова и защитников Хрузова.
Хрузов почти забросил научную работу. Изредка, правда, его теребила та самая мысль, что безвозвратно ускользнула от него в метро на станции «Октябрьская» в момент неожиданной встречи с Леной. Если бы мысль касалась его любимой неподвижной точки, Хрузов вряд ли ее позабыл. Но это было что-то другое, хотя и математического происхождения, и Хрузов с сожалением вспоминал, как оно вначале поразило его воображение, а потом убежало, воспользовавшись его оплошностью. Как давно это было! Теперь он занимался вещами исключительно практическими, может быть, поэтому та коварная, непостижимая мысль-озарение ему больше не открывалась. Она, словно разочаровавшись в нем, бросила его на произвол судьбы.
Читать дальше

![Алексей Вдовин - Серый мужик [Народная жизнь в рассказах забытых русских писателей XIX века]](/books/29083/aleksej-vdovin-seryj-muzhik-narodnaya-zhizn-v-rassk-thumb.webp)