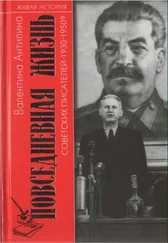«О чем же я думал? — силился он вспомнить, но не мог, что-то мешало ему сосредоточиться. — О чем же я думал? Ведь у меня была какая-то очень интересная мысль и, кажется, даже не имеющая отношения к неподвижной точке… Или — нет? Или я думал: что же мне делать? Как, как себя повести: взбелениться, накричать на них или же хладнокровно пройти мимо? А может, просто поздороваться?»
И тут он прозрел. Он увидел то, что должен был увидеть. Фигуры снующих по залу людей, беспечных и озабоченных, сгинули, ускользнули, будто их и не было вовсе, остались лишь эти двое. Они только что вышли из вагона, стояли напротив Хрузова и держались за руки, как дети, причем мужчина, старший лейтенант артиллерии, все еще улыбался — он никак не мог согнать с лица улыбку, и ото лба к носу, острому, как отточенный карандаш, бегали потешные, судорожные волны.
Хрузов осмотрел старшего лейтенанта мельком, хотя ему запомнились и его нос, и знаки отличия, перевел взгляд на Лену, на ее глаза, такие знакомые, каверзные. В них не было ничего, кроме страха и мольбы. Лена не из пугливых, и этот страх, перемешанный с мольбой, почему-то тронул Хрузова, на какое-то мгновение задел за живое.
— Ну и ладно, — негромко, словно бы в раздумье, сказал Хрузов, — ну и любите друг друга, мне-то какое дело. У меня защита на носу. — Помолчал, добавил для весомости: — Мне ничего от вас не надо.
Он развернулся и пошел в обратную сторону. Это была ошибка, потому что они смотрели ему в спину и, должно быть, видели, как его шатает, как у него подкашиваются ноги и дрожат руки, а может быть, и голова тоже. Спина его стала чрезмерно чувствительной, словно готовясь принять в себя пулю, выпущенную вслед. Но никакой пули, естественно, не было, а только слова, но те отскакивали, не проникая, и терялись в мраморных сводах метрополитена.
— Федор, ну Федор же… Постой! Будь мужчиной в конце-то концов! Куда ты летишь? Давай поговорим… Ты ведь не любил меня, сознайся. У тебя есть наука, твоя математика, твоя неподвижная точка, зачем тебе еще и я? Мы с Вадимом давно собирались тебе сказать…
Хрузов ступил на движущуюся вверх ленту и медленно стал уплывать от них: от этих нелепых слов, от жены, от старшего лейтенанта и его неприятного острого носа, похожего на заточенный карандаш. Голова Хрузова гудела, и, подобно тому, как вращался механизм эскалатора, в ней тоже что-то происходило, какое-то вращение, тяжелое, медленное, однообразное.
Затем Хрузов вышел на воздух и увидел, что летний день по-прежнему дождлив, но горизонт чист, и, значит, морошение, уже ставшее занудным, скоро кончится. Не доставая зонт, Хрузов пошел по напитанному влагой асфальту. Он чувствовал себя несчастным. Все вокруг выглядело блеклым, скучным. Даже радуга, полукружием проступившая на небосводе, показалась ему состоящей из оттенков какого-то гнетущего мышино-серого цвета.
Квартира, где жил Хрузов с матерью и Леной, была в десяти минутах ходьбы от метро. Он не прописал к себе жену, значит, думал Хрузов, их развод, без детей, размена жилплощади и дележа имущества, выливался в пустую, заурядную формальность, некую неприятную процедуру. Однако мысль о разводе привела вдруг его в ужас, и он едва сдерживал слезы, готовые в любую минуту побежать по лицу, перемешаться с редкими каплями дождя, падавшими с неба с упорной настойчивостью.
Хочется заплакать, подумал он испуганно. Забыть приличия возраста и дать выход этому простому и естественному чувству, возникающему от бессилия и ненависти. Но ведь мне тридцать два года, я как-никак научный работник. Я не имею права быть слабым. Последний раз слезы проступали на моих глазах два года назад, вспоминал Хрузов, шагая без разбора по лужам и не замечая всплески брызг, поднимавшиеся за ним. Тогда я нашел ошибку, перечеркнувшую четырехлетние усилия и показавшую, что путь, которым я шел, тупиковый. Вот когда уж действительно стоило зарыдать! Четыре года упорного труда превратились в нуль, в ничто. Но все-таки я не заплакал. Я превозмог! И неужели же в этот раз мне не совладать с собой?…
Дома Хрузов кинулся на диван, не забыв снять тапочки, и лежал тихо, долго, часа три, уставившись в замысловатый рисунок ковра на стене. До сих пор Хрузов думал, что знает о жене все, и вот теперь он понял, насколько хрупка и ненадежна была его семейная жизнь. Но ведь она и не была главным в его судьбе, утешал он себя. Он всегда считал, что рожден для дела, для науки. Кандидатская диссертация в двадцать пять и уже готовая к защите докторская открывают ему такие перспективы, в сравнении с которыми измена жены — досадный случай, не более… Все образуется, в конце концов он женится вторично. Все проходит. Только результаты его научной деятельности нетленны, вечны. Так успокаивал и все-таки не мог успокоить себя Хрузов, блуждая взглядом в лабиринте зеленых линий на ковре, мучаясь ревностью и обидой.
Читать дальше

![Алексей Вдовин - Серый мужик [Народная жизнь в рассказах забытых русских писателей XIX века]](/books/29083/aleksej-vdovin-seryj-muzhik-narodnaya-zhizn-v-rassk-thumb.webp)