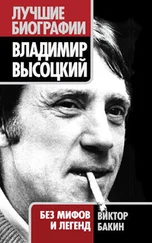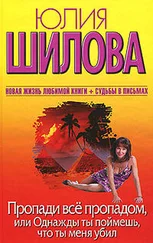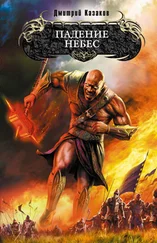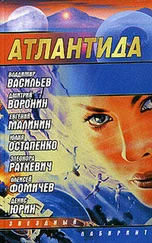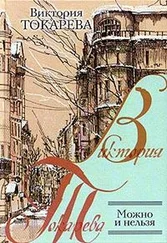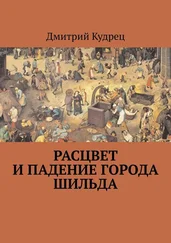Фактура этой прозы наотмашь сугуба — деревня, армия, пот, железные мышцы, черная работа, изнасилование, нищета, смерти, драки, убийства, — но все это лишено каких бы то ни было значений (психологических, этических, социальных), кроме одного — абсолютного значения судьбы как таковой (желание следовать или не следовать ей зависит не от нее, судьбы, «качества», не от «удачности» ее или паскудности, а от заданной — пусть от Бога — ориентировки: покоряться судьбе или перекорять ее), существования как такового; в прозе Бакина потому много знаков (показателей совмещенности вещного и вечного: грязная бумажонка в сгнившей одежде полутораметрового мужичка со схемой его родословной), но совсем нет символов (ибо нет срединного пространства сознания, рефлексии, в котором символ обретает значение; слепой мальчик, мастеривший на рассвете храм из спичек, увидел пришедшего в деревню человека и, «испытывая жгучую боль в глубине незрячих глаз, молча, неотрывно, жадно смотрел поверх куполов недоконченного спичечного храма на черную несгибаемую спину, на черный, несокрушимый мужской затылок, похожий на тяжелый колокол, и смотрел, изнемогая от яркой боли, до тех пор, как мужчина и собака не растворились в привычной тьме двухгодичной слепоты»; храм, колокол и прозрение не символизируют божественности мужчины — мрачного, тяжелого человека, нарушившего к тому же впоследствии шестую заповедь, а указывают на прочную близость всякого небесного всякого земного).
«Мы порождение взрыва», — говорит кто-то из персонажей; взрыв не знает верха и низа, Добра и Зла, нравственных акцентов. Взрыв — апофеоз жизни, движения и одновременно точка смерти, с ощущением этой нерасчлененной абсолютности существует бакинский мир, нам не найти координат, из которых мы можем судить. Мир как бы вывернут наизнанку — он выпукл, фактурен, подробен в точно выписанных мелочах, но о каждом шаге, о каждом деянии мы — безоценочно — можем сказать лишь то, что они есть.
Жизнь есть; вот она, в густой прозе, в физически сильной образности, в едва ли не безукоризненной пластичности описаний, но и смерть есть — здесь же, в этом же. Столь же реально, выпукло, полнокровно (или полно-«бескровно»). Бакин, на мой взгляд, единственный сегодня наследник Платонова, проза которого, конечно, влияла и влияет на тысячи русскоязычных литераторов, но Бакин — наследник прямой. Не только в пафосе (который можно попытаться определить как кровавое сопротивление всякой возможности пафоса), не только в «метафизичности», не только в стиле, в постоянном ощущении того, как мир синтаксически выворачивается из себя, но даже и в материале — крестьянском, рабочем, мужицком. Но едва ли не впервые в нашей словесности «мужицкая» литература начисто лишена того, что ей столь усердно навязывали сонмища искренне наивных авторов, от демократов XIX века до «деревенщиков», — либо «чудаковатости», возведенной в ранг нравственной чистоты, либо прямой нравоучительности, занудной до ломоты скул. Какая уж нравоучительность, если мы порождение взрыва?!
Вячеслав Курицын (Екатеринбург)
из статьи в «Независимой газете»
…Плотность, «весомость» повествовательной ткани в прозе Д. Бакина отнюдь не противоречит внятно ощущаемому в каждом рассказе «потустороннему сквознячку», проникающему в тугие, медленно раскручивающиеся сюжеты. Присутствие смерти прямо в жизни и попытка человека отстоять свой персональный мир — главная тема таких рассказов Д. Бакина, как «Оружие», «Страна происхождения», «Лагофтальм», «Нельзя остаться», «Стражник лжи».
Т. Г. Кучина, О. С. Рогозина
Ярославский педагогический вестник, 2013, № 3
«Все во мне и я во всем»
Урок по рассказу Дмитрия Бакина «Сын дерева»
Урок посвящен пока еще малоизвестному, хотя и получившему уже несколько литературных премий писателю, сопоставляемому критикой то с Фолкнером, то с Платоновым, автору, ставшему продолжателем классических традиций русской литературы благодаря той системе четких нравственных ориентиров, в которую встроены сюжеты его произведений.
Обращение к творчеству Дмитрия Бакина продиктовано тем, что произведения писателя, не так давно пришедшего в литературу, сразу продемонстрировали талант яркий, неординарный, самобытный. Во Франции после выхода там сборника его рассказов Бакина называют «русским Камю», современная критика сравнивает его с А. Платоновым, а «у тех, кто читал Фолкнера, в первую очередь, возникают ассоциации с автором „Авессалома“» (Степанян К. Реализм как преодоление одиночества. «Знамя», № 5. 1996). В произведениях писателя отчетливо видна особая система поэтики: затянутость экспозиции, медленное разворачивание сюжета, смещение кульминации ближе к финалу текста. Поставленные автором проблемы драматичны, и бакинский герой оказывается с ними один на один. Кроме того, персонажем часто становится человек с травмированным сознанием или физическим недостатком, лишенный возможности вести полноценную жизнь… Часто за алогизмом поведения героев писателя скрывается глубинная человечность, альтруизм, желание защитить близких. Может быть, Дмитрий Бакин тем нас и удивил, что оказался вызывающе несовременным.
Читать дальше