После революции каждое очередное правительство Веймарской республики делало еще один шаг вправо. Официально запрещенные и тайно поддерживаемые отряды «добровольческого корпуса», убившие Эрцбергера и Ратенау, продолжали преспокойно вести жизнь ландскнехтов в имениях прусских юнкеров. Разрешенная Германии стотысячная армия под командованием генерала Секта состояла из офицеров и унтер-офицеров, которые в любую минуту могли начать обучение и подготовку миллионной армии (так и случилось через восемь лет). По-прежнему бессильные социал-демократы не получили в рейхстаге «нежеланного» — по словам остряков — большинства и тем самым были «спасены» от необходимости осуществлять партийную программу и ограничивались лишь тем, что изредка произносили бесплодные оппозиционные речи. Кроме коммунистической партии, руководство которой допускало тактические ошибки, в стране не было настоящей оппозиции. Две крупные демократические газеты «Берлинер тагеблатт» и «Фоссише цейтунг» стали такими прохладненькими и слабенькими, будто их выпускали политически слепые люди. Только два левых журнала — «Дас Тагебух» и «Ди Вельтбюне» — продолжали писать против все крепнувшей реакции — два одиноких муравья, неспособных помешать всесокрушающим слонам. Весной 1925 года скончался социал-демократ Фридрих Эберт, первый президент Веймарской республики. Президентом стал Гинденбург, тот самый, что позднее назначил Гитлера рейхсканцлером.
Тем не менее повседневная жизнь Веймарской республики стала как-то человечнее. Не было того верноподданнического духа, который царил в кайзеровской империи. Чиновник снял с себя одежды небожителя и уподобился простым смертным. Михаэль особенно остро почувствовал это в почтовом отделении на Уландштрассе, вспомнив, как четырнадцать лет тому назад его чуть не арестовали за то, что он осмелился крикнуть на богоподобного чиновника, высокомерно раздававшего свои дары. Теперь же он мог говорить с чиновником так же свободно, как и с приветливым соседом в очереди. Это было целое событие.
Михаэлю исполнился сорок один год. У него были уже совсем седые волосы и узкое молодое лицо. До дна была выстрадана потеря Лизы. Он мог спокойно рассматривать фотографию Лизы, стоявшую на книжной полке. Несколько дней тому назад он достал ее из ящика стола и, словно во сне, опять поставил на полку. Годы, прожитые с Лизой, целиком запечатлелись в нем, заполнили его существо, стали частью его чувств, его достоянием, лучшей частью его существа, которую он обрел только благодаря Лизе.
Лиза как-то сказала, что, несмотря на всю энергию, несмотря на всю непреклонность по отношению к самому себе, без которой он давно бы погиб, Михаэль в сущности очень мягкий человек. Благодаря Лизе он узнал, что ничто на земле не может сравниться со счастьем найти настоящую спутницу жизни. Теперь он был одинок. Он тщетно искал новую спутницу. Он не уставал повторять себе, что все поиски бесполезны, что это должна быть «встреча», и все же не прекращал поисков. Одиночество и беспокойство толкали его к развлечениям. Каждый вечер он уходил из дому и возвращался лишь к утру. Женщины проходили через его квартиру, много женщин, от которых он ждал только того, что и они от него.
В то переходное время между катастрофой и восстановлением ночные кабаре Западного Берлина были полны элегантных женщин — женщин с деньгами и за деньги, те и другие ничем не отличались друг от друга, потому что все в этой сумятице хотели одного и того же. Всякого, кто приближался сюда, подхватывал и затягивал водоворот. Михаэль даже не ждал, пока его затянет, — он сам вошел в воду и поплыл по течению. Одна женщина сменяла другую. Но жену он так и не встретил. Второй Лизы нигде не было, как не было больше и того, кто всей душой принадлежал Лизе.
Он стал другим человеком, одним из тех, что жили в нем.
Вечера обычно начинались у Шваннеке в ночном кабаре, которым заправлял актер, носивший эту фамилию, и который посещали только артисты, журналисты, писатели; кончались вечера, после рейда через добрый десяток кабаре, в «Инзель», открывавшемся только в три часа ночи — ради кельнеров и музыкантов, работавших до трех в других кабаре, и ради господ во фраках и дам в вечерних платьях — эти жадно стремились с помощью джазов и шампанского хоть в последнюю минуту выжать из жизни то, чего в ней никогда и не было. Каждый вечер начинался в розовых красках надежды и кончался сплошным серым цветом.
Читать дальше
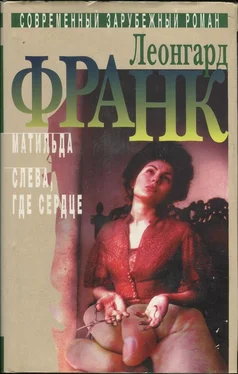



![Леонгард Франк - Пьесы [Авторский сборник]](/books/424345/leongard-frank-pesy-avtorskij-sbornik-thumb.webp)




