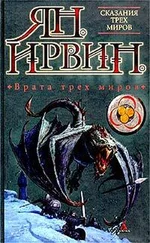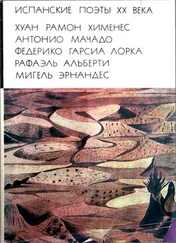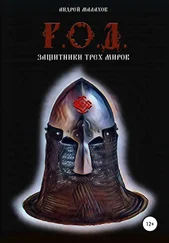Свой дар, никем не превзойденный в нашей музыке, Фалья день ото дня углублял и делал богаче, то бросая его в облачные волны бездонной зелени на откосах Альгамбры, то в объятия неистощимой неги рядом с холодной нежностью опалов, аметистов и тусклых роз Сьерра-Невады, то оставляя его у балюстрады Сан-Николас лицом к лицу с массивными кубами багровых башен, недвижных и одиноких под невесомой кроной ветвистых вечерних туч, то вверяя его стойкому кипарису, совсем не кладбищенскому и такому стройному и статному на лунной белизне известковой стены.
Ночью снизу долетает шум Гранады — крики детей, колокола, блеянье коз — как россыпь мелких звезд (крупные — все наверху), пастуший рожок, обрывки песни, плакучие переливы. Зыблются бессчетные огоньки долины. И словно вымерла Антекеруэла, где одиноко загорается этот зеленый балкон с этой зеленой шторой под этим зеленым фонарем (в уличном водостоке — мертвая крыса). Урочный час — и сны музыканта, который счастливо улыбается, перебирая четки, прячутся от лунного света на тайном углу жгучих искушений, где бродят темные чары гибкой, бронзовой и заблудшей цыганской песни.
Я не знаю большей тишины в переполненном зале, чем та, что исходит от Пабло Казальса, когда он играет, потому что в его игру вслушиваются, как в тишину.
Кажется, что и сам он, светлый, строгий, с лицом, запрокинутым в бесконечность, играет тишину, делает ее музыкой, своей серебряной сестрой, хранящей золотое безмолвие высшей пробы.
Так звучит родник в полном безлюдье или во сне. То высшее, что достигается музыкой: звук, не подражая природному, становится природным.
И закрадывается в сердце. Поскольку на самом-то деле Пабло Казальс играет не на виолончели, а на собственном сердце, чудится — si vis me flere [22] И если слезы моей хочешь добиться… ( лат. ). Перевод И. Дмитриева.
, — что смычок касается не струн, а наших сердец.
Он возникал и сникал, как огонь на ветру, взвивался змеей свистящего пламени, рассыпался и свивался вьюнком раскаленных искр, молниеносно настигал добычу, таял золотыми брызгами и вновь, без видимой связи, возникал здесь и там, везде сразу, легкий, воздушный, неуловимый — блуждающий огонь, вольный всплеск адского пламени. (Как только ни величали этот летучий костер, как только ни называли его, живого и мертвого! Пако, дон Пако, Блаженный, дон Ассизский. Да ничего подобного! Если уж подменять его имя, Франсиско Хинер или дон Франсиско, как звали его близкие, так чем-то демоническим, в духе преисподней.)
Конечно, он был добрым, и не добреньким, а добрейшим, но всегда безотчетно, упоенно, в порыве влюбленности, а в конечном счете — от боли и чувства вины. Да, радушный костер, пригвожденный к земле, задумчивый и тревожный; застигнутый врасплох призрак человека, неутолимого и готового страдать, иссушенного вечным горением, но с душой избыточной и свежей, полнокровным родником в луговом зное. И бессчетные язычки влаги, постоянно сменяясь, ласково лижут все что ни есть — розу, рану, звезду.
Он был во всех и всем: в ребенке — ребенком, в женщине — женщиной, в каждом — этим каждым, молодым или старым, умным или дурным, больным и здоровым, был деревом и птицей, и цветком, но прежде всего — светом.
Этот свет отблеском литой стали, каленого клинка его жизни, прочертил небо с юга на север и с запада на восток, сверкая и слепя, и в конце, на скрещении бесконечных дорог, высветил тайну своей мимолетности.
Опалив, обласкав, оплакав всех и вся, он умер и воскрес в каждом из нас. Как в арабской сказке, однажды ночью блеск покинул свое лезвие — зачем? — и залетел слишком далеко и не успел вернуться в предназначенный час. И они разлучились навсегда: клинок — голубая птица — застыл в своих земляных ножнах, а бесприютный свет, щемящий, как утраченная душой свобода, растворился в широких волнах безбрежной нивы.
Тусклый — сизая сосна пасмурным днем? — на фоне яркого окна в холодное ясное небо; на запрокинутом лице потаенная улыбка, как инкрустация, как серебряная жилка в сером камне или ручеек в бурьяне или нежный росток на древесной коре; уютный, как деревенский дымок, и непонятно, отрешенный ли, беспечный или озабоченный, Рикардо Рубио, «сеньор Рубио», садится и медленно оборачивается. Сон или явь?
Когда он навещает мою память, мне чудится, что идет он тихим беленым коридором и, молча улыбаясь, исчезает за боковой дверцей, слитной со стенами. Эта потайная дверца — куда она ведет, если так магнетически втягивает его, как отвесный колодец? Дверь это, или рама, или зеркало? Да, Рубио из глубины времен приходит нежданно-негаданно и уходит, равно живой и мертвый, сквозь беззвучный лабиринт дверей, картин и зеркал, чьи рамы воскрешают его, изображают, отражают. Стоит чему-то скрипнуть или упасть с легким стуком, стоит освещению мигнуть или смениться — и чудится, будто это он бродит наугад по забытым коридорам. Порой стены становятся изгородью, а двери, зеркала, картины распахиваются в поля. И желанный гость наших снов становится тогда спутником призрачных одиноких скитаний, деревом у дороги, всегда рядом и всегда другим, возникающим и исчезающим через каждые пару шагов вдоль его однообразной вереницы, скорой, расцвеченной нежным мхом, отзывчивым на ласку, с вечно преображенной кроной, где щебет залетной птицы рассыпается крохами нашей скудной жизни.
Читать дальше