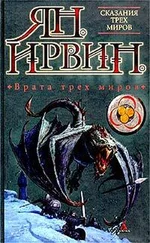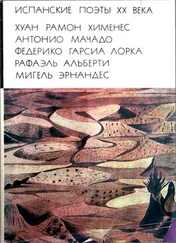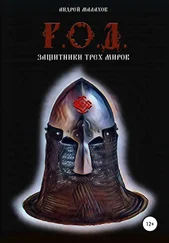Хосе Марти пал на родной земле, которую наконец увидел, пал жертвой страстей, зависти, равнодушия и неизбежной судьбы, подобно странствующему рыцарю всех времен и народов. Кубинский Дон Кихот, он сберег вечный завет испанского духа. Надо, кубинцы, создать «Романсеро Хосе Марти», героя в жизни и в смерти, принесшего в жертву избранную судьбу поэта, защищая свою землю, свою любовь и свой народ. Пуля нашла того, кто в нее не верил, и отомстила за это. Ее отливали темными веками во всех темных углах, и мало кто из кубинцев не добавил в нее, пусть даже не желая того, подлую крупицу свинца. Я, к счастью, не чувствую, что во мне такая крупинка когда-либо таилась — и помимо моей воли вошла в него. Я всегда понимал его и знал, как понятно ему то, что чувствуешь на солнце, под деревом, у воды или при виде цветка и всего, что близко и так понятно душе. Я из тех зачарованных, кто верит в вечную красоту добра. Потому что добро — и это по-своему выразил Бруно Вальтер, тихий и светлый поэт музыки, вольный изгнанник, духовный собрат Марти и, простите эгоизм, мой тоже — добро «внешне» разрушается другими, но «внутренне» никогда не разрушает, подобно злу, само себя.
Смешно говорить, когда не слушают, но куда хуже слушать, когда молчат.
Мариано Хосе де Ларра
Внезапно сонный ветер (сонный день напролет) встрепенулся, и в нем, как в разбитом водном зеркале, возник силуэт, прежде растворенный в оцепенелом воздухе. Он зыблется, расколотый рябью, темный и не целостный. Так порой сталкиваешься с кем-то, не зная, где он, но чувствуя, что где-то здесь, по его властному присутствию.
Здесь похоронена надежда.
Солнце заходит, осенний вечер занимается и быстро сгорает, замирая где-то высоко, над сердцем родины, чистым и холодным огнем. Стихает ветер, и черный силуэт роняет свою тень с бурой вершины, и тень его пронизывает Испанию, как темная мысль, острая и мучительная, а сам он блекнет, тает и прощается с нами, как ночь с предвечерьем, не разлучаясь ни с нашими думами — надеждой, которая хочет воскреснуть, ни с нашими сердцами.
Один художник, уже старый и в своем роде незаурядный, знавший Росалеса с юности, рассказывал мне, с каким ужасом смотрел на друга, когда тот писал «Смерть Лукреции». У Росалеса не было мастерской, и некий министр, любитель изящных искусств, предоставил ему один из парламентских залов. В зале не было ровным счетом ничего, кроме холста, Росалеса и холода. Старик говорил, что всякий раз, наложив мазок, художник должен был присесть — спрашивается, на что? — и прокашляться, словно жизненную силу, которую придавал он, например, прекрасным рукам Лукреции, он исторгал из собственной груди. По словам друга, картину выставили в парусиновом балагане, то ли в цирке, то ли в чем-то подобном. В том году Мадрид замело снегом, и Росалес, извещенный об опасности, должен был сам, кашляя и обливаясь потом, спасать картину до того, как ее похоронит снегопад.
Мелькает, как на экране, давняя и давно угасшая жизнь. Беззвучный кашель, нищета, кашель, снег, кашель, картины, кашель и кровь, подмешанная в масло, ее свежие мазки, присохшие к полотнам. Гигантская воля, мощь, верность призванию, которой отданы все земные соки слабого тела. И вечная неуверенность того, кто заведомо способен удержать на ладони громаду замысла, рожденного искрой души. (Чем измерить ее энергию и кто взвесит эту искорку! Она вспыхивает в зените чередой огненных куполов, пламенным покровом всего самого бесценного.)
Собственный напор, остывая и твердея, подминает человека своей многотонной мощью. Свеча Росалеса гаснет; стройный и хрупкий, мягкая бородка, лихорадочный румянец на скулах, одышка, спазмы, в глазах роятся черные мухи, он еле держится. Огонек багровеет, сизая вспышка, черный фитиль. Этот испанский постоялец, иссякший родник душевной силы, меняет пристанище. Башня пустеет, бурая и холодная, он сливается с ее тенью, становится тенью и, смахнув с лица последние золотые пылинки, тянется к подножью, к земле — и погружается в эту землю, эту темную родину, не нуждаясь больше ни в отрешенности, ни в стойкости.
Испанский изобретатель, мореплаватель и физик в парадной форме, с раздвоенной королевской бородкой, серьезный, озабоченный и бесстрашный, — в дворянском собрании Могера. (А в моем кармашке — кремовый платок с лиловой субмариной посередке.) Изобретатель и изобретение прочно стали на якорь в национальной культуре: помимо привычного клише, газетного, на всех подмостках, в куплетах и сценках, на размалеванных охрой фасадах и т. д. (На крепостной стене красовалась огромная анилиновая субмарина в компании акул и глобусов, от которых меня, при известном освещении, брала оторопь.)
Читать дальше