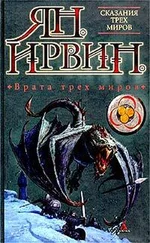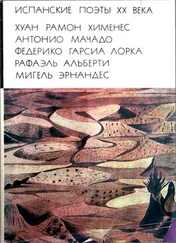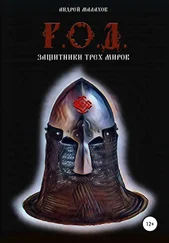Ваятель речи. Заглохли его рудные жилы в каменных недрах души и тела. Философия, Испания, метафизика! Кто слепит эти глыбы, срастит обрубки? Кто сложит рассыпанный калейдоскоп чудесной мозаики? Где сегодня искать обломки того рационального позитивистского монизма, которому так упорно учились мы в севильском университете?..
Николас Сальмерон после завтрака вернулся на миг, чтобы позвать меня из пантеона знаменитых испанцев в свою рабочую комнату, романтическое тайное убежище, гулкую пещеру пустынника в полуденном сонном Мадриде. Он надевает блузу каменотеса на фрак оратора, цвета флага посередке. Стол остался таким же, каким он его покинул, заваленный зубилами, штихелями, стамесками, угольниками. Камни, слова, древесина всех сортов, оттенков и размеров; заготовки слева, все отделанное, отшлифованное — справа; кубы, конусы, сферы; одно набело, другое начерно. И лучистые глаза философа (последний луч, нетерпеливость того, кто должен уйти, не досказав) смотрят на меня и вокруг меня, обволакивая мыслью, любовью, силой, кристаллизованными смертью в гранит и мрамор. Агатовые глаза с капелькой вечернего испанского солнца на их выпуклой чистоте. Глаза немыслимой черноты с розовыми отсветами в глубине, глаза почти осязаемые. Как лунные сумерки садов Ретиро в минуту короткого прощания.
Он вошел в махровом пальто, шотландском шарфе до ушей и с маленьким пледом в руке, выкатив глаза, два выпуклых, как у Сократа, полушария, пряча в азиатских усах детскую, добрейшую улыбку и перемежая смех ласковой речью, с легким каталонским акцентом. Сразу, забыв об окружающих, он отвел меня в угол и заговорил о моем «Платеро», который ему понравился, по его словам, своей сердечностью и несерьезностью.
Было это в Нью-Йорке в 1916 году. Снег и мрак, туннели улиц, колодцы какой-то бездонной шахты, где в подземной глубине мириады крохотных существ, и среди них мы, снуют, как микробы под микроскопом, мельтеша цветами и оттенками со всех концов света в странной мешанине какого-то слаженного разброда. Окна, витрины жизни и смерти, живая и мертвая натура и целые музеи витрин, картины всех художников со всего мира. И всюду, на улицах, в парках, в комнатах наслоение эпох и стилей, картины всего мира вплоть до самых диковинных. И мы, персонажи, покинувшие свои рамы, говорим сами с собой, как водится в Нью-Йорке, и гадаем, бежать или остаться.
Было очевидно, что Энрике Гранадос испытывал страх, ужас душевный и телесный. Чего боялся? Всего. Пережитого плавания, недавнего моря, абстрактного Нью-Йорка, отеля, театра, толпы. Его неистощимая доброта терпеливо сносила все, но с какой нескрываемой тоской и неспособностью притворяться! Я видел, как он садится за рояль, робкий, чужой, деликатный, словно извиняясь и прячась, как выслушивает потом аплодисменты, не уверенный, что заслужил их, и косится вбок, на преподобного Пабло Казальса и Архентину, наряженную пурпурной махой.
Сумятица Нью-Йорка захватила Энрике Гранадоса и унесла — какое предвестие! — словно море еще живую жертву. Мутная волна швыряла его туда и сюда, вверх и вниз, умиляясь или ухмыляясь. Однажды вертикальный вихрь подбросил мою шляпу до пятидесятого этажа узкой улицы и затем быстро и безапелляционно зашвырнул ее раз и навсегда в мусорный бак. А Гранадосу раскаленный уголек с грузоподъемника залетел между шарфом и усами. Ожог. Бежать! Настойчивый рефрен — бежать! По воздуху или по воде. По воде. Он ушел в море, самое тягостное из его наваждений. «Если гонится лев, прыгай в море». Слышанное не раз и всегда — сидя в каюте.
Он редко поднимался на палубу, закутанный до бровей, чтобы меньше видеть, пугался стихии и сбегал, как от чудовища, вниз. От чего убегал? От кого? И вот «Sussex» торпедировали. Страшась моря, Энрике бросился в него, вместе со своей Ампаро. Остальные остались наверху, вне опасности. И сверху на миг увидели их на плоту Харона. Так они исчезли — он, спасаясь от страха, и она, любящая, верная, неразлучная, ревнуя к волне, этой гибельной Киприде, — исчезли навсегда.
В Гранаду он перебрался в поисках тишины и времени, а дала ему Гранада гармонию и вечность. Случайный прохожий на углу Антекеруэлы видит порой крохотный силуэт, четкий и черный, с белыми каемками — черную клавишу стоймя в мерной и слитной зыби верхнего сада, или высвеченных пыльным кирпичным закатом, гулким от аэропланов, воскресных визитеров у столика (мансанилья и печенье) в нижнем саду: романтически стройную даму в кружевном трауре, вечно юную старушку в ископаемом капоре, манерную заграничную приму, заезжего пустомелю с лицом оборотня, кого-нибудь из испанских поэтов.
Читать дальше