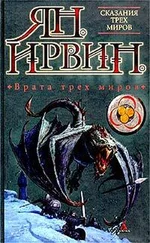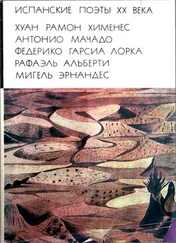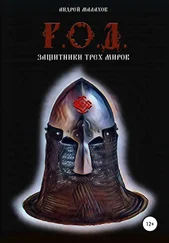Его беспримесные цвета, охристый и черный, — это сгустки его натуры. Ничего шаткого, никаких тебе и да, и нет. Да — это четкое «да», охра и уголь. Как говорится, это человек, вспаханный доброй сталью. Он напоминает муравейник римской крепости, построенной впрок. И его труды, его детища тоже долгожители, как наши испанские замки на скалах, багряные на закате, словно второе солнце.
Лемма дона Сем Тоба: «Нет надежней крепости, чем честность».
Отрешенный, тонкий и трезвый реалист, весь ушедший в чудесный лабиринт жизненных хитросплетений микроскопа. Я не знаю другого облика, настолько же испанского, настолько нашего — сильного, тонкого, резкого, чуткого и задумчивого. Он не смотрит ни на кого — и ни на что в отдельности, но вечно озирается, рассеянно и растерянно, словно втайне отыскивает себя, чтобы наконец увидеться лицом к лицу.
Воплощенная уступчивость, нерешительность, детская робость, он внезапно взрывается словами, твердыми, вескими, решительными и бесповоротными — вырвался из-под материнской опеки, — и похож тогда на ребенка, утверждающего правду… И, независимый, неприкаянный, уходит — не в ту сторону, сворачивает, и снова не в ту, — сжимая в руке зонтик, который вряд ли когда раскрывал, в чужом пальто, забыв о шляпе.
Однажды вечером, ослепшим от затяжного дождя, я увидел его в трамвае — вдев в серебряную гриву дужки очков, он собрался читать, забылся, склонился к окну и замер в усталом и грустном оцепенении, вглядываясь в какую-то свою бесконечность.
Его сущность — это даль. Когда эта даль воплощается и он наступает на провод, чей электрический разряд делает реальность ощутимой, с первого произнесенного слова, с первого, еще далекого взгляда от него остается лишь ядро, гипертрофированный лоб, или оболочка; глаза, брови и подбородок, которые прячут угрюмость, перестают быть суровыми к нему и пытаются стать приветливыми к нам. Он в засаде, у распаханного поля, со свинцом наготове. Тяжело свесив голову, он крадучись уходит в темный лес с белыми дриадами. Ежедневная прогулка. («Минотавр у себя в лабиринте», — ядовито заметил Асорин в немецкой книжной лавке, размахивая номером «Зрителя». «В лабиринте лавров», — ответил я.) Но на заманчивой опушке его останавливает груз сердца, благородное бремя, такое же контрабандное, как и бремя желаний, которые включены в беспамятство дегуманизации и потому внешне не проявляются. Лишь рядом с ним, как с отяжеленным плодами деревом, ощутима упругая терпкость и здоровая спелая яркость его крови, цвет ее главного вместилища.
Ортега ищет, кого бы насильно и, пожалуй, насильственно, сделать своим. Речь не о том, зачем, а о том, как. Узы дружбы — его силки, он втягивает в воронку своего вдохновения, фокусирует его то на одном, то на другом, и если те не хотят войти в заколдованный круг, бросает его под ноги, как гибкую петлю, и заставляет, отпрянув, оступиться и шагнуть в западню. И Ортега раздвигает узорные латы и говорит, бескорыстный чеканщик своих убеждений. И вскоре полностью отдается своей страсти. Огненная речь, магия далей за океаном, бьет наповал, и сраженный амфитеатр воспламененного запада покорно отзывается салютом оваций. «Прежде, — говорит он мне на зеленом холме, утрачивая в сумерках свой полемический дар, — прежде мне, как и вам, надо было присесть, чтобы думать. Теперь я думаю на ходу».
Беседуя и думая на ходу, он обрел равновесие, свою квадратную устойчивость. И слова окрыляют его фантазию, как летучие вымпела, и, колыша свои испанские цвета в последних лучах солнца, уносят ее в самые глухие уголки запредельности, где уже смерклось и пустыня усеяна звездами.
Милая улыбка, дружелюбная и слегка набекрень, с ямочками на щеках, почти детскими и чуть лукавыми, щурит его глаза в розоватых прожилках (чтение, бессонница, возраст).
Он из тех доброхотов, что при встрече начинают улыбаться издали. (Как хороши эти одинокие испанские встречи в горах, морях и селеньях!) А стоит сойтись — и «да, да, да!», радость, душа нараспашку и веселая дробь этих «да» в лад бодрой и напористой крови.
Два знака, утвердительный и вопросительный, один — прямой, другой — извилистый, словно крылья скобок, замыкают в себе этого сына Ронды, тысячелетней и будущей. «Да, да» — мягко стелет учтивая воспитанность. Сначала осторожное согласие, изредка нарушаемое уместными замечаниями, предупредительным: «А не кажется ли вам?»
Читать дальше