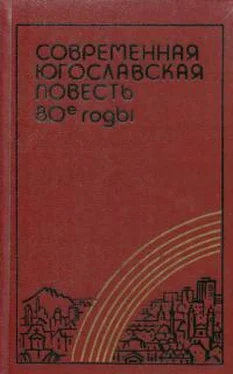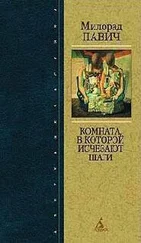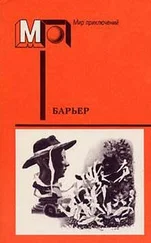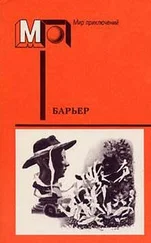«Мне нравится, когда ее нет, хотя и не могу без нее. И бог знает, может ли человек кого-то любить, кроме себя самого?» — говорил он.
Настроение у него резко менялось. Я знал, что эти внезапные смены настроения всегда предшествовали сокрытию его души.
34
Пока Разия выздоравливала, Теодор совсем одичал. Жил как отшельник. Часто подступали рыдания, терзали головные боли. К тому же и сновидения нарушали его душевное здоровье, порождали мрачные предчувствия. Как будто он не видел сны, а жил в них. Настроение, в котором он просыпался, сохранялось в течение всего дня. От сновидений зависело его состояние — то ли радостное, то ли грустное. Однажды утром он неожиданно позвал меня и заявил, что должен немедленно поехать в Дыры к матери. Я спросил, не больна ли она, но он не ответил и лишь твердил, что должен повидать мать. Я пытался отговорить его тащиться в такой холод, который охватил всю страну. Постепенно он успокоился. И по горячим следам рассказал мне свой сон, который привиделся ему под утро.
Он очутился в подвале дома, таком огромном, что в нем мог вместиться целый мир. Вдруг открывается железная дверь, и через нее входят божьи люди, входят один за другим, и наконец появляется его мать. Теодор порывается к ней подойти, но не может двинуться. Он зовет ее, а она не слышит, потому что в это время к ней подступает смерть и что-то шепчет на ухо. Теодор хочет оторвать их друг от друга, но не в состоянии сделать и шага. Ноги не слушаются его. В таких мучениях он и проснулся.
Теодор хорошо разглядел смерть, однако не находил слов, чтобы описать ее. Голова его клонилась к груди, точно он засыпал. Увидев во сне смерть, он больше не заговаривал о поездке к матери.
35
Среди предков Теодора ни по линии отца, ни по линии матери не было случаев умопомешательства, разве что у попа Луки, о котором шла молва, как о ясновидце и пророке. Этот поп Лука приходился Теодору седьмой водой на киселе по материнской линии. Теодор часто говорил об игре генов во времени. «Не зря в народе говорят, что семейное проклятие может сказаться и в девятом колене».
Я не собираюсь игнорировать возможность влияния прошлого через игру генов, но полагаю, что у Теодора гармония выросла из жизненного опыта, из его осознания, открытия. Его непостижимое понимание времени не только как течения, но и как всеобщей вибрации, присущей цивилизации, культуре, может быть, всякому порядку, порождалось и разумом, и могущественнейшей и возвышеннейшей энергией его существа. А необъяснимая чувствительность души переполняла его и захлестывала настолько, что и Разия, и работа над «Словарем» просто утопали в ней. Оттого, наверное, и его бегство.
Многие приятели Теодора, да и некоторые врачи именно в этом усматривали причину его душевной болезни, но я никогда в это не верил. Его чувствительная душа оказалась в полном одиночестве над пропастью. Уход Теодора из Дыр, воспоминания, учеба, женщина, «Словарь», обеспокоенность разорили гнездо его существа. Теодор пребывал на меже, на вечной грани, соединяющей и разъединяющей миры, в которых он оказался потом, с мирами, из которых вышел. Ему никогда не удавалось преодолеть то, что, как ему казалось, он может одолеть. В самом себе он мог все упорядочить, но какую-то незримую стену, отгораживающую его от других, он был не в состоянии ни разрушить, ни воссоздать. Где-то терялась и пропадала его душевная доброта, понимание времени и самого себя. Струны его души были совершеннее и тоньше, чем у других. Они могли оборваться в любой миг.
Не хочу сказать, что в жизни Теодора была некая роковая черта. Но любое, даже самое незначительное несогласие с самим собой и с другими откладывалось, образуя незримую стену, отделяющую его от людей. Эта незримая стена росла из-за наслоений непрестанных страданий и мучительного стыда, и я назвал бы ее Стеной Свершений всей его жизни. Его изматывала работа над «Словарем» — он не мог перелить в книгу свое понимание и свои ощущения.
Он все больше стыдился людей. Словно его красивая голова разрушала красоту того, что видит, к чему прислоняется. Теодор понимал, что не может жить только с самим собой, что должен жить с другими, и вместе с тем бежал этих других — он все больше чувствовал, как гармония тянет его в пропасть. Свет своей души он скрывал даже от самого себя. («Может ли кто понять другого? — говорил он. — Кого интересует, что я выкапываю из слов?») Работа над рукописью и спасала, и опустошала его. Тогда-то он и говорил о языке как о неповторимом материале, подобном времени, — разве что язык образуется из более осязаемого строительного материала. А то, что невозможно осязать, трудно вставить в книгу.
Читать дальше