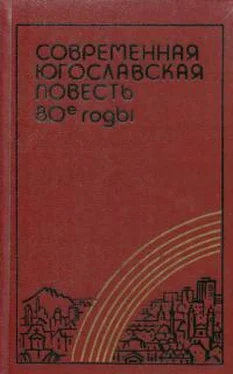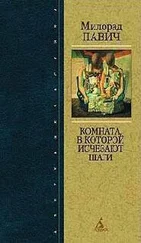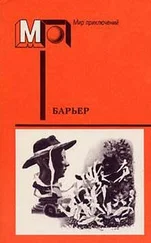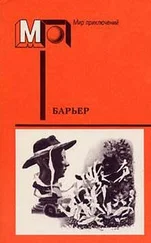Всюду он чувствовал себя лишним. Словно калека. Говорил, что тяжел и для людей, и для земли, по которой ходит. Хотя это никому, кроме него самого, в голову не приходило. Он сторонился собственного внутреннего ока, которое из тьмы души непрестанно его изучало.
30
В 1972 году Теодор два месяца, сентябрь и октябрь, провел в Дырах. Просто ему хотелось уехать из Белграда на какое-то время и успокоиться, Разии он запретил его навещать. Сейчас мне кажется, что уже тогда его душевное состояние имело признаки будущего катаклизма.
Мы — осколки прошлого, говорил он. Но становимся и настоящим, когда открываем их в себе. Куда ни глянь — всюду жизнь, то ли Разия вдохновляет, то ли Святой Иероним.
Почти сразу после знакомства Теодор и Разия отправились на остров Хвар. Они купались на островке Святого Иеронима. Брали лодку у какого-то старика. Не помню, как его зовут, хотя Теодор частенько называл его имя. В тот первый месяц знакомства он был ослеплен любовью. Лицо его озарилось внутренним светом, который излучала его душа. Покой и красота струились из его глаз. А длинная шея еще больше вытянулась, словно он летел. Было ясно, что Разия отрывает его от корня, хотя и не скажу, что изменяет его. А когда через несколько месяцев он насытился ею, в его взгляде вновь засквозило беспокойство. Его обличие и настроение как бы отражались в их отношениях. Хотя неуравновешенность исходила от Теодора. Или мне так кажется. В его душе всегда существовал заветный уголок, куда никто не мог проникнуть. Однажды, когда мы стояли на Калемегданском холме и любовались зыбкими отражениями в мощном потоке реки, где тщетно скрывалось июньское солнце, он сказал, что не может выразить свой внутренний душевный трепет. Улыбаясь, сравнил его с холодными небесами.
«Острова как люди, — продолжал он. — Ты был на островке Святого Иеронима? Это что-то вроде окаменевшего кораблика, бросившего якорь возле Хвара. На скалах, созданных временем, мы с Разией были последними гостями уходящего лета. Не знаю, когда мне было лучше с Разией — тогда или сейчас, когда я вспоминаю то лето».
Он сидел спокойно под огромным кизиловым деревом возле дома, уставившись на пустые Селишта. Под его левым глазом пульсировала красноватая жилка.
«Человек объединяет мгновения прошлого, нынешнего и будущего времени, — шептал он. — Но по существу само время неразделимо. Человеческие мгновения попадают в коловращение времени, а человек этого не понимает. Можно ли за один миг охватить жизнь? Миг — страшная единица времени. Я не думаю, что можно понять или освоить время, ибо оно существует и до и после нашего прихода в него. Интервалы же — пусты. Они не сотворяют время для человека. Выходит, что наша целостность деформирована. С приходом весны я гляжу на голые ветви деревьев и обещаю себе, что увижу появление листвы. И аллея покрывается листвой за одну ночь! Я не улавливаю мгновения, когда распускаются листья, как не улавливаю мгновения перехода реальности в сон. Разве это не время? Разве прекрасные мгновения не скрываются от меня? Пронизывает ли красота времени мою душу? Я боюсь красоты, ибо не знаю, смогу ли выдержать ее».
Теодор встал и перешагнул через невысокую межу. Остановился на участке, засаженном луком. Засохшие перья и увядшая трава покрывали землю. Здесь, на этом участке, когда-то давно он рвал молодой лук и ел его с погачей и копченым салом.
Картины из детства проплывали, недосягаемые, над Теодором. Их связь с дальнейшей жизнью нарушала его душевное равновесие. Если ему не удавалось проникнуть в воспоминания, он воссоздавал их в своей книге.
«Как это кизиловое дерево, — шептал он, — гнется под ветром, сопротивляясь ему и возвращая ветви в первоначальное положение, так и человек сопротивляется насилию. Когда нет ветра, дерево живет спокойно, когда ветер налетает, оно сопротивляется. Есть деревья, которые, как и люди, лишь гнутся под напором ветра, а есть такие хрупкие деревья, которые ломаются. Есть высокие деревья, которые ломаются из-за своей высоты. Кустарник же клонится по ветру и потому выдерживает его. А в человеке есть незримая сила, заложенная в нем самом, и потому в этом, видимом, мире он борется сам с собой. Его переживания иногда видны, иногда нет. Но спокойствия нет никогда».
Назавтра Теодор поднялся на Острожские утесы, высокие, крутые. Остановился на самой верхушке. Внизу увидел Дыры, Црниш и Пелиново. Присел на корточки, словно птица. Казалось, что он вне мира. Казалось, что с этой высоты он без труда заглянул в собственную бездну. Ему было тесно в самом себе и вольготно вне себя. Гармония, к которой он стремился, возвращалась к нему демонической силой. Когда он мне потом рассказывал обо всем этом, я подумал, что пустоты в душе имеют только счастливые люди.
Читать дальше