В математике я слабовата, но что поделать? С числами у меня вечная вражда. Все фарисеи, умеющие хорошо считать, люди приземленные. Синева неба над головой — для них ничто.
Я надену черное шелковое платье с глубоким вырезом, о котором папа говорит, что я выгляжу в нем, как цирковая наездница. Ради бога, ничего не имею против. Пусть я буду выглядеть, как цирковая наездница, и при этом иметь успех.
Кстати, сегодня я была свидетельницей небывалого чуда. Нечаянно. Я вернулась домой на Фрейтаггассе и, войдя в кухню, увидела редчайшее из представлений: мои родители целовались! Не как хорошие товарищи, а по-настоящему, искренне. В губы. Как парочка молодых влюбленных. Я наблюдала, можно сказать, братьев Лилиенталей, взлетающих к небу. Непостижимо! В кинематографе на Нусдорфштрассе я смотрела фильм „Вдова Чаунер“. Там тоже было нечто подобное, но здесь, у родителей моих, это было еще непостижимей! Как-то раз я слышала с фонографа голос бессмертного Патти. Для меня это было вершиной непостижимого. Но родители мои были сама нежность! Это выше моего понимания! Папа обнимал маму и что-то горячо шептал ей в ухо. Мама была абсолютно покорной и только плакала. Чуть слышно постанывая, она подставляла шею для его пылких поцелуев. Из самой глубины груди едва доносились повизгивания, будто там, в самой глубине ее, таял громадный ледник.
Оба до такой степени были заняты друг другом, что не замечали моего присутствия. Мама бережно расстегнула папину рубашку и гладила его плечи. При этом она бесшумно всхлипывала и прижималась к этому маленькому человечку. Как молитву повторяла она одни и те же слова — никогда не поверила бы, что они вообще могут слетать с ее губ, до такой степени несвойственны слова эти устам моей дорогой мамы:
— Лео, бедный мой Лео! Ну почему я так бессердечна с тобой?
Папа долго не мог выговорить и слова в ответ. Он был целиком поглощен жаркой волной встречного тепла, нежданно-негаданно метнувшегося к нему с той стороны, откуда он не ждал его вовсе. Но вдруг и в его перехваченном чувствами горле ожил язык, и он выдохнул в ответ:
— Ах, Яна, это я, я, я сам во всем виноват. Я не стою твоего ноготка. Ты — свет мой, единственная звезда, которая сияет в темном небе над моей несчастной головой. Я украл твою молодость. Я поработил тебя. Моим эгоизмом, моим малодушием, позорной трусливостью моей я лишил тебя воздуха. Мое бессердечие задушило в тебе все чувства. Жар-птица моя…
— Мой бедный, бедный Лео! Почему, почему я так бессердечна с тобой?
— Это я гадкий, я. Ни разу не посмел я сказать тебе, как я тебя обожаю, потому что я боялся тебя. Я готов умереть от стыда, потому что я — ничтожный карлик. Круглый нуль. Жалкий простофиля. Я — вечный неудачник по жизни. Ты заслуживаешь лучшей доли, Яна…
— Почему, почему же я так бессердечна с тобой, мой бедный Лео?
— Я мечтал осыпать тебя драгоценными камнями, бросить к твоим ногам самые роскошные одежды. Весь свет мечтал я исколесить с тобой, чтобы везде и всюду люди восхищались твоей красотой. Всем и каждому хотел я буквально кричать: „Смотрите — это моя владычица! Богиня, которой я молюсь и у которой я состою в вечном рабстве!“ Об этом мечтал я, и что в итоге? Мы прозябаем в дыре под названием Флоридсдорф, в этом бедняцком предместье Вены, и кругом пусто, будто помелом прошлись…
Безудержные рыдания вырвались из его груди при этих словах. Он бросился перед мамой на пол, стал целовать ей ноги и выл, как израненный пес. Я не могла этого вынести. Мне захотелось немедленно прекратить эту сцену самобичевания, и я крикнула:
— Мама, папа, ради бога, что происходит?!
И тут мама очнулась от экстаза, осмотрелась вокруг и, будто даже отряхнувшись, ответила с деловым спокойствием служаки из почтового ведомства:
— Разве ты забыла, Мальва? Сегодня Йом Кипур, праздник всеобщего примирения. Мы с папой примиряемся. Таков обычай.
Мне вспомнилось тут же: будучи одиннадцатилетней девочкой, я спросила как-то учителя религии — что, собственно, означает Йом Кипур? Он ответил мне, что это десятый день седьмого месяца, который называют Тишре. В этот день евреи молят Бога о прощении грехов. Йом Кипур — это день всеобщего примирения. Учитель продолжал говорить — то и это, но я уже не слушала его, потому что слова его были слишком напыщенными, а голос — чересчур театрально-трагичным. Я не выдержала и рассмеялась. И была наказана за эту дерзость. Все это казалось мне забавным — не более того. Целые сутки человек накапливает в себе злость, а на следующее утро достает ее оттуда целой и невредимой. Люди опять раздражаются, поносят друг друга и то же самое получают в ответ. Проклинают один другого, подставляют друг другу ножки, кощунствуют, богохульствуют, чтобы в будущем году, в десятый день месяца Тишре стереть все это, словно губкой, и вновь все будет выглядеть в полном порядке. Мы, евреи, народ практичный. Мы поклоняемся искусству возможного. Триста шестьдесят пять дней в году любить ближнего — это уж слишком! Подобные добродетели нам не по плечу. Любить можно либо себя самого, либо своего ближнего. То и другое вместе — это из области фантастики.
Читать дальше


![Андрей Каминский - Проект Плеяда 2.0 [СИ]](/books/35370/andrej-kaminskij-proekt-pleyada-2-0-si-thumb.webp)

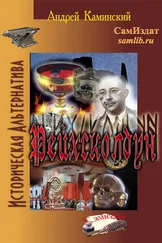

![Андрей Каминский - Избранник тёмного бога [СИ]](/books/394849/andrej-kaminskij-izbrannik-temnogo-boga-si-thumb.webp)
![Андрей Каминский - Чёрные воды [СИ]](/books/394850/andrej-kaminskij-chernye-vody-si-thumb.webp)
![Андрей Каминский - Нет времени для Тьмы [СИ]](/books/394879/andrej-kaminskij-net-vremeni-dlya-tmy-si-thumb.webp)


