В хозяйстве Розенбахов настал час пик. От клиентов не было отбоя, и поток их нарастал. Флоридсдорф был пролетарским районом, который являлся главным источником пополнения воинских рядов, и потому потребность оставить о себе хотя бы недорогой снимок на память была самой высокой в столице.
Испокон веков малоимущих первыми гонят на передовые позиции всех без исключения боен. Те, кто побогаче да к верхам поближе, всегда располагают средствами и способами находить для себя укромные местечки в глубоком тылу, подальше от пуль и снарядов.
Таким образом, в бедняках и беднягах, гонимых на бойню и жаждущих запечатлеть себя напоследок, недостатка не было. Благодаря этому дед мой невольно стал самым крупным в двадцать первом округе Вены оптовым торговцем памятью. Он выпекал пирожки в виде памятных фотографий по три кроны за дюжину, и не было дня, чтобы он не положил себе в карман меньше сотни крон.
Жизнь в достатке ключом забила на Фрейтаггасе, а с ней пришли и новые непредвиденные трудности. Утром первого же дня войны комната ожидания ателье была битком набита солдатами, пожелавшими быть в последний раз запечатленными непременно в присутствии своих близких — матери, подружки или возлюбленной. Поздним вечером Лео, выжатый, как лимон, чуть приоткрыл дверь ателье и спросил, есть ли еще желающие. Отозвался какой-то облезлый прапорщик, прижимавший к себе щуплую барышню, которая от страха тряслась всем телом и не переставая бубнила одно и то же:
— У меня будет от тебя ребенок, Тони. Если ты не вернешься, я удавлюсь.
Мой дед был до мозга костей преданным монархистом, но эта грустная сцена тронула даже его сердце и угрызением совести застряла в самом горле. Сочувствие свое он выразил особенным образом, официально спросив хриплым голосом:
— Ваше имя, пожалуйста?
— Хавличек Антон, — ответил прапорщик.
Подружка его между тем продолжала тихо причитать:
— Я жду ребенка, Тони, ты не должен умереть…
Лео сам готов был вот-вот разрыдаться, но взял себя в руки и спросил прохладным тоном:
— Где проживаете?
— На Шпиц, номер двенадцать. Сто шагов отсюда.
— Сын торговца кониной, если не ошибаюсь?
— Не задавайте столько вопросов, нам нужно спешить…
— Вы отправляетесь на фронт, как я понимаю…
— Куда же еще? Завтра чуть свет, когда вы еще будете пукать в вашу перину, в шесть часов мы отправляемся. Фотографии заберет эта барышня, моя невеста.
Не в силах больше сдерживаться, девушка стала безудержно всхлипывать:
— Если ты не вернешься, Тони, я выброшусь в окно.
Лео потихоньку удалился в другую комнату и позвал туда Хавличека:
— Ваш отец должен гордиться, молодой человек. Он дает кайзеру такого крепкого бойца. Присядьте, юноша, вот сюда. И улыбайтесь!
— Я должен улыбаться, господин Розенбах? Именно я должен улыбаться, тогда как вы остаетесь дома, у теплой печки…
Лео быстренько нырнул под черную накидку, откуда было легче изрекать подобные пошлости:
— Бог мне судья за мои грехи, господин Хавличек, — пробубнил он оттуда, — я произвел на свет единственного ребенка, и та, к сожалению, дочь…
— Не отчаивайтесь, господин Розенбах, вы еще успеете настрогать детишек, которые сложат свои головы за какое-нибудь дерьмо.
— Вы полагаете, юноша, наш кайзер — это какое-то дерь…
— Да пошли вы вместе с вашим кайзером! — перебил его Хавличек. — Он ничуть не лучше вас, вы оба делаете ваши гешефты на солдатах, которых гонят на бойню.
Лео чувствовал, что разговор этот хорошим не кончится. Он спросил неуверенно, действительно ли нынешняя молодежь против Австрии.
— Против Австрии — нет, господин фотограф, — резко ответил прапорщик, — но против евреев — это точно. Они лезут своими вонючими пальцами в наши тарелки и слизывают масло с наших булочек. Когда меня повезут на поле брани, ваша дочурка будет красоваться перед зеркалом и чистить свои холеные перышки.
— Может, такое ничтожество, как я, вообще неподходящий для вас фотограф?
— Когда фотографии эти будут готовы, меня уже не будет в живых! — ответил прапорщик с усталым презрением в голосе.
Лео понял, что дальнейший разговор бессмыслен. Он поднял вспышку, поджег ее и выдал, чтобы уж не остаться перед этим сопляком в долгу:
— С вашими представлениями, господин Хавличек, эту войну мы точно проиграем…
* * *
Через три дня после того, как престарелый кайзер Франц Иосиф объявил войну королю Сербии, через два дня после наделавшей много шума мобилизации в России и на следующий день после объявления немецкой стороной ультиматума Франции в Париже был застрелен известный борец за мир — лидер социалистов Жан Жорес. Многие годы призывал он пролетариев всех стран объединиться и посредством всеобщей международной забастовки предотвратить разжигание мировой войны. Рецепт его был прост, и будь он претворен в жизнь, вся наша планета выглядела бы сегодня совсем по-другому. Но в жизнь он претворен не был. Голос этого миролюбца навсегда умолк. Пролетарии всех стран не сумели противостоять соблазну и предпочли действовать собственным интересам вопреки. Будто в хмельном угаре, шатались они по просторам своих стран, требуя одного и того же: войны до победного конца. Войны против братьев по классу. До полного истребления противника. Было очевидно, что чьи-то «научные расчеты» на деле обернулись полным просчетом.
Читать дальше


![Андрей Каминский - Проект Плеяда 2.0 [СИ]](/books/35370/andrej-kaminskij-proekt-pleyada-2-0-si-thumb.webp)

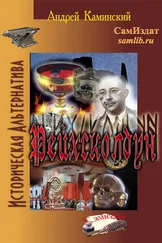

![Андрей Каминский - Избранник тёмного бога [СИ]](/books/394849/andrej-kaminskij-izbrannik-temnogo-boga-si-thumb.webp)
![Андрей Каминский - Чёрные воды [СИ]](/books/394850/andrej-kaminskij-chernye-vody-si-thumb.webp)
![Андрей Каминский - Нет времени для Тьмы [СИ]](/books/394879/andrej-kaminskij-net-vremeni-dlya-tmy-si-thumb.webp)


