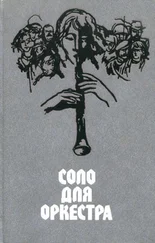К Богумилу пришли товарищи. Они развлекались, взрывая карбид. Ведь и Богумилек был не более чем обычный мальчишка. Но для меня это не меняло дела: мальчишка ли, будущий ли благочестивый монах — так или иначе, что бы он ни натворил, хорошая порка в любом случае всегда ждала меня.
Мальчишки брали жестянку, насыпали в нее карбид, закрепляли крышку веревкой и в отверстие мочились. Выделившийся газ вскоре разрывал веревку, крышка сдвигалась, отлетала, и раздавался отличный взрыв.
Один из таких «снарядов» зацепил Пеструху за рог. Послышался легкий звон, но пугливой корове и этого было достаточно. Она взбрыкнула всеми четырьмя и пустилась, задрав хвост, наутек вместе с плугом и своим вечным и неизменным балластом в моем лице.
Вскоре, споткнувшись, я упал и поехал на животе со скоростью коровьего галопа. Я быстро сообразил, что на сей раз если уж не убить, то искалечить меня она может вполне. Дико пляшущий плуг несколько раз больно саданул меня в бок, на меня с головокружительной быстротой надвигался близлежащий лес с зарослями молодого граба и малинника. Приятного мало, и я отпустил корову. Потом мы с отчимом бегали за ней по лесу, пока не догнали. Ярмо — вдребезги, постромки оборваны. Безнадежно изломанный плуг мы нашли еще раньше.
Отчим, взбешенный причиненным разором, привязал меня к Пеструхе, чтоб я не убежал. Я же его при этой экзекуции искусал как мог. Он в ярости хлестал кнутом, но не корову, как сделал бы настоящий мужик, а своего пасынка. И так всю дорогу, пока мы не добрались наконец до дому.
Мама увидала странную процессию: гордо вышагивающая корова с остатками ярма, лихо сдвинутого набекрень, растерзанный, подскакивающий от каждого удара кнута, мальчишка, которого волочит искусанный и подвывающий отчим. Мама забилась в переднюю комнату и там долго плакала. Мне ее рыдания не больно-то помогли, и легче от этого не стало. Отчимова ярость сразу вызвала у мамы состояние почти полной невменяемости, и потому он, не поскупившись, врезал мне еще раз.
Мой братик Богумилек, ничтоже сумняшеся, продолжал и дальше развлекаться взрывами.
Но больше всего побоев я, конечно, навлек на себя непреходящей страстью к чтению, супротивностью и по-детски открытым проявлением неприязни к отчиму. И хотя мой сводный братик, без злого умысла и не желая этого, стал причиной избиений, так же он, сам не желая и не ведая, стал причиной того, что поведение отчима резко изменилось и навсегда прекратились его безобразные выпады и порки.
Богумилу было уже восемь, а мне, соответственно, двенадцать. Нормальное развитие событий, казалось, должно было бы еще на много лет вперед обеспечить меня воспитательными экзекуциями отчима. Но тут неожиданно противоестественной набожности Богумилека воспротивилась его мальчишеская суть. И чем дальше, тем больше.
Отчим либо не замечал мелких проказ Богоушека, либо объявлял, будто сие зло исходит от меня. Но одно преступление мой братец совершил со столь наивной откровенностью, что сомнения в идентичности преступника быть не могло. Кроме того, это преступление было непосредственно связано с его религиозным пылом. И посему я не мог считаться даже его духовным наставником. Меня можно было упрекнуть в чем угодно, только не в набожности. Это признавал и сам отчим, с его своеобразным чувством справедливости.
Поступок Богоушека был настолько безобразен, что отчим, позабыв о его привилегиях наследника мужицкого престола, избил мальчонку с такой основательностью, что еще немного и отправил бы его на тот свет.
Мечтой отчима был новый дом. Прочное теплое строение из обожженного кирпича под красной черепичной крышей. Символ незыблемости семейного очага и наглядное доказательство его фантастического усердия, бережливости и набожности. Мечта эта, естественно, никогда не осуществилась. Нет, не совсем так: ее осуществил Богумил, но много, много позже.
А пока отчим с сизифовым долготерпением латал нашу старую халупу из необожженного кирпича, стены которой сочились сыростью и каждую зиму покрывались инеем в палец толщиной: на дровах приходилось экономить.
Но больше всего хлопот доставляла отчиму толевая крыша с прогнувшейся вязкой. Любой дождь затапливал комнату. По углам стояли бадейки, посреди — лохань. В конце осени отчим лазил по крыше, подклеивал толь толем же, но, как только начинались дожди и оттепель, нас все равно заливало.
Когда разразилась война и продовольствие поднялось в цене, отчим стал еще придирчивее заглядывать в мамины горшки. Излишки он продавал голодным, бедствующим горожанам, пока наконец его накопления не достигли головокружительной суммы в две тысячи крон.
Читать дальше