Позвонил Саша Казак, сказал, что погребение будет уже завтра, в двенадцать, и чтоб я поторопился.
Мчал всю ночь; был на месте в шесть утра. Республику закрыли: выезд из неё был запрещён. Паники боялись? Нет, никакой паники не было. Не хотели выпускать убийц?
За тридцать минут до прибытия дозвонился Араб, сказал, куда свернуть через триста метров после того, как миную таможню.
Миновал и свернул.
На пустыре меня быстро пересадили в другую — впервые её видел — машину. Потёртая гражданская легковушка без особых примет.
Разместился на задних сиденьях, посередине меж двумя бойцами.
За руль моей сел Граф, справа с ним — Тайсон.
Добрались без происшествий.
Сразу заехал в ту центральную гостиницу: Казак уже сидел на прежнем месте.
Он и тогда тут был. Должен был встретиться с Главой через полчаса. До «Сепара» из гостиницы — полторы минуты ходьбы. В ту секунду, когда Казак услышал взрыв, Главы не стало.
Приехал Ташкент — весь обожжённый: лицо, шея. Кисти перебинтованы. Еле идёт. Руки держит так, словно едет на невидимом мотоцикле.
Сел (так и держит руль) и начал говорить (наверное, размышлял про это вчера, а потом сегодня с утра):
— Они там в Киеве думают, что убили, и теперь будет им проще. Но могут прийти другие. Жестокие. Не такие, как Батя. Совсем беспощадные.
Ташкент размышлял о правильных вещах. Но только, подумал я, ничего этого не будет. Придут не те, про которых он говорил.
Прощались с Главой — в театре. На стене театра висел его огромный чёрно-белый портрет. Он был отличный мужицкий экземпляр. В простой лепке его лица — за счёт упрямых, бешеных глаз и бесподобной улыбки — нарисовалась та мимическая сетка, что позволяла им по-настоящему любоваться.
На площади собралось великое человеческое множество. Кого-то свезли по шахтёрскому гудку и директорскому свистку — тысяч двадцать пять, — хотя и среди них многие наверняка хотели проститься. Но более ста тысяч донецких явились сами. Заранее зная, что ко гробу подойти — не смогут.
Местный люд — небывалый.
Это даже в их газетах отражается.
Я донецкие газеты терпеть не мог. Вся их печать в целом — деревянная, медленная, скучная, будто из-под земли разговаривающая.
Потом только понял: за этим стать, крепь.
С той стороны метали фейки, как икру, — и вся эта лягушачья парша плавала на поверхности, зайдёшь по колено — потом ноги чешутся, кожа слезает, трёшь её до зуда, на пальцы смотришь: то ли кожу натёр, то ли это мелкие какие-то червяки завелись и передавлены тобой только что — тьфу, мерзость.
А Донбасс — он иной: суровые столбцы текста — прямоходы сочиняли. Никакого жонглёрства: кирпичная кладка.
Человеческий разговор на донецкой улице подслушаешь — ни жалоб, ничего: поджатые губы, взгляд наждачный, чего у них на уме — не знаешь: если долго смотреть — начинаешь их побаиваться.
Могут, конечно, кости перемыть кому угодно — но в том не было даже привкуса той непрестанной истерики, что прославила отдельную — весь добрый соседский народ позорящую масть — вечно возбуждённых на той стороне. Из месяца в месяц, без раздумья и отдыха, от падучей переходивших к плясовой. Сегодня был их день — они плясали, рвали гармони, хохотали так, что от перенапряжения начинали блевать, но, наблевавшись вдосталь, снова пели, кривлялись, ходили то на руках, то сразу на четырёх лапах, снимали штаны, и, вывернув шею — чтоб зрители видели счастливые глаза, — хлопали по собственной заднице, оставляя багровый след пятерни, понемногу от этой игры распаляясь, отбегали за угол, будто бы по нужде, и снова являлись с чуть блудливыми глазами плясать, петь, показывать огромные, влажные, с накипью языки, блеять, стрекотать, завывать, подлаивать.
«Помер! Подох!! Кончился!!!» — ну, не веселье ли.
Я наблюдал донецких в дни, когда на той стороне заваливался в яму очередной стратег в полковничьих или генеральских погонах, — при известии об этом местные даже не вздрагивали; никаких плясок не проводилось; убили так убили, чего ж теперь.
…На кладбище поехал заранее.
Вдоль всей немалой дороги, на тротуарах, толпились люди и всматривались куда-то поверх моей машины, словно траурная процессия будет спускаться с неба или передвигаться на небольшой высоте.
Люди прибывали на кладбище понемногу; скоро догадался, что пустят сюда только избранных: иначе эти горегорьские сиротные тысячи здесь просто не поместятся.
Подкатила открытая грузовая машина с гробом. Начали выгружать.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
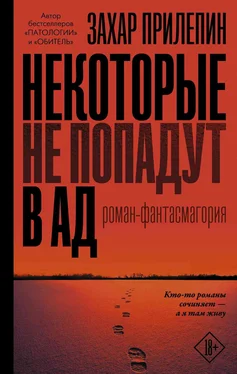
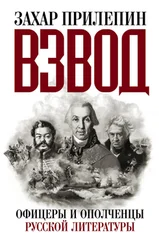






![Захар Прилепин - Всё, что должно разрешиться. Хроника почти бесконечной войны - 2013-2021 [litres]](/books/430624/zahar-prilepin-vse-chto-dolzhno-razreshitsya-hronika-pochti-beskonechnoj-vojny-2013-2021-litres-thumb.webp)



