В первые ряды не встраивался, шёл поодаль.
Место выбрала вдова: донецкие просторы и медленное, как комок под кадыком, солнце.
Начались речи; тоскливо слушал; первым выступал Трамп, вторым Пушилин.
Казак и Ташкент смолчали; или им не дали сказать, или Ташкент не в силах был говорить, а Казак слова не просил.
С кладбища поехали на поминки — огромный зал, сотня накрытых столов, пиджаки, погоны, снова речи начались, рассказывали больше о себе, чем о нём; я и сам так делаю уже триста страниц, — но в тот день пробыл минут пятнадцать и вышел вроде как покурить.
Угодил четвёртым в знатную компанию, кто-то из них негромко поделился: «…взяли пока только одного, он сразу сказал: да, я из СБУ, да, Порошенко знал про операцию: без него такие решения не принимаются, — но источник, откуда пошёл импульс на ликвидацию, ищите у себя под боком, это многоуровневая разработка, а больше я ничего не знаю, так что режьте поскорей на куски».
Услышанного мне было достаточно, и я уехал.
Думал бесполезное: если б я встретился с императором — и если б император принял его — они не посмели бы.
Кто они?
Они знают, а нам никто не расскажет про них.
Просыпаются утром, включают свет, надевают халат, ищут босыми ногами тапочки, идут пить свой кофе, свой свежевыжатый сок. Тёплые тосты. Несколько ягод.
Принимаются за дела. Серьёзные люди, правильный ритм. К сожалению, я никогда не смогу их убить.
И ещё я не рассказал о нём.
Надо, или уже поздно — пора убирать свою домру?
Мой друг меня покинул. Его исхитила смерть.
Это очень печально, когда забывают друзей. Не у всякого был друг. И я боюсь стать как взрослые, которым ничего неинтересно, кроме цифр. Конечно, я попытаюсь передать сходство как можно лучше. Но я совсем не уверен, что у меня это получится. Наконец, я могу ошибиться и в каких-то важных подробностях. Но вы уж не взыщите.
Вот мы встречаемся.
Здоровались по-донецки: не протянутой, а согнутой в локте, вертикально поднятой рукой; цепким замком сцеплялись ладони; мне нравилось так здороваться.
Не столько даже обнимались, сколько на миг ударялись плечом о плечо.
Помню: никогда никаких малейших запахов от него не было; мужики пахнут то по́том, то перегаром, то кобелём, то жратвой какой-то, — ни разу ничего подобного.
Что ещё.
Мчался к месту всякой, после очередной бомбёжки, погибели донецких людей.
Приезжаем — как чёрный рот ужаса — выдолбленное окно на пятом, на шестом, на седьмом этаже, — в эту воронку будто засасывает воздух, если птица близко пролетит — может разом остаться без перьев, облысеть. Под этим окном висит пыль, битое стекло на траве. Соседи у входа в подъезд стоят в халатах, в тапках. Видны голые живые ноги в синих венах.
Лифт в муках, изнывая, тащится наверх, как будто не хочет.
Батя играет желваками.
Из лифта сразу видна открытая дверь, ведущие внутрь следы средь битого кирпичного крошева, извёстки, мела. Там кошмар, тьма: человек, не ходи.
Он шёл — прямо на крик — к матери, у которой одним прилётом убило мужа и дочь; она выла — он говорил, обнимал, гладил.
Находил в себе силы: откуда?
Находил — на войну, на жену, на девок, на деток, на ярость, на убийство, на жалость, на прощение; он был огромный, как парус, — в него задувал ветер; он был из песни.
На что находят силы убившие его?
Он поднимал людей в атаку, на самой кромке передовой: сначала метался по окопу, орал на всех, пугающихся встать, потом сам, первым, вылез; до тех позиций оставалось полсотни метров, добежал, спрыгнул в чужой окоп, в руке пистолет — щёлк по набегающему, и осечка… тогда ствол загнал в глаз человеческий.
…потом, когда всё закончилось, шёл по окопу — и, походя, обтёр ствол о форму чужого убитого, лежащего на бруствере.
Он сам всё это делал.
С этим жил потом. Тащил это всё в себе, на себе, унёс с собою.
Там теперь разбираются, спрашивают? — а тот самый пистолет покажи! — а ополоумевшей тётке, не рыдавшей уже, а хрипевшей, — ты что сказал, какое слово? — откуда ты это слово извлёк, где его прятал? — а пленных тогда отпустил — сотню сразу, говорят, — это зачем? — мог бы продать их, обменять, или кровь из них выпить, много чего мог, а взял и отпустил, без выкупа, как так?
Или — человековедение: та ещё наука. Рассказывал мне (просто хочу напоследок послушать его голос): «…если за каждую копейку всех душить, тут будет вокруг меня одно кладбище. Я тебе клянусь. Вот смотри, средняя машина ЖЭКа воровала в месяц около семисот литров соляры. Это делилось на водителей (первая и вторая смена), механика и начальника ЖЭКа. Сейчас воруют по триста литров. Во-первых, потому что мы меньше наливаем им, во-вторых, им всё-таки становится стыдно, а в-третьих, им просто не на чем будет ездить, если столько воровать. Но если я начну выгонять водителей, механиков и начальников ЖЭКа за воровство, тогда у меня город будет грязный. Поэтому я понимаю, что они воруют у меня триста литров солярки в месяц, и на это закрываю глаза. Иногда прихожу и говорю им: “Суки вы, блядь! Вчера купил у вас соляру, — ради прикола своему соседу, он этим занимается, так он сказал — плохая соляра, неочищенная!”. Сосед аж побелел. Потом рассказывали: он через лейку с тонким ситом ворованную соляру пропустил, чтобы почистить ее. Не слил обратно, а доочистил… А главврач? Главврач этой больницы на чём живет: он своих поставщиков нашёл, и закладывает десять процентов отката себе с закупок продуктов и со всего остального. Так что теперь, врачей арестовывать? Я знаю, что ворует. А он догадывается, что я знаю. Я подкалываю его периодически: тут ущипну, там ущипну, потом смотришь, он в больнице что-то уже сделал. Нельзя же всех увольнять. Главное — знать, где и кто ворует, и понимать: когда за ухо взять, когда носом ткнуть, а когда и промолчать…»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
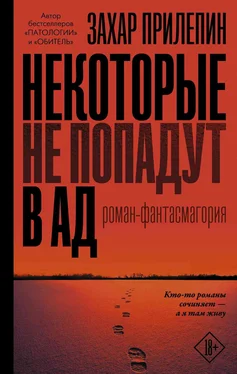
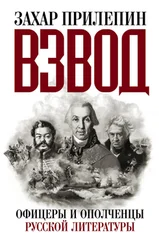






![Захар Прилепин - Всё, что должно разрешиться. Хроника почти бесконечной войны - 2013-2021 [litres]](/books/430624/zahar-prilepin-vse-chto-dolzhno-razreshitsya-hronika-pochti-beskonechnoj-vojny-2013-2021-litres-thumb.webp)



