Потом Граф говорил, а Тайсон кивал: «Захар, ты, конечно, да… Я бы так не смог».
«Мы же вежливые люди».
…На Хаски собралось столько, сколько здесь никогда и не было, наверное. Сверху всё это напоминало большой, поставленный вертикально коробок спичек с задранной упаковкой: сотни коричневых головёнок, одна к другой, — и уже стремятся выпростать хотя бы одну руку, чтоб ей помахать: «Хас-ки! Хас-ки! Хас-ки!».
Хаски ещё был за сценой; к нему подъехали его диджей и второй вокалист; и несколько других, начинающих рэп-музыкантов, ещё не боящихся испортить себе реноме. В российском шоу-бизнесе можно было признаться, что ты в детстве откусил голубю голову, что твой внебрачный ребёнок живёт в сиротском приюте, что ты пробовал человеческую кровь, и все остальные человеческие жидкости тоже, что другие твои дети выведены искусственным путём, что у тебя три гражданства и ни одного российского, потому что это не страна, это наблевали, и её надо прибрать с порошком, порошок у тебя уже есть; что у тебя четыре соска, два пупка, а также особые присоски на теле… Но съездить на Донбасс — боже мой — это чудовищно, это невозможно.
В Донецк приезжали петь Иосиф Кобзон — но он делец, к тому же донецкий делец, — и эта, как её, Юля, — ту-лу-ла, — но она невменяемая. Нормальные люди едут в нормальные города ближнего зарубежья, а не в разверстое адище с мороками и морлоками.
Сами вы адище.
Донецкие малолетки по большей части проживали какую-то отдельную, вне ополченских забот, жизнь. Вперялись в происходящее непонимающе.
Они взрастали меж кружащихся вдалеке сечевиков, орков, комиссаров, вурдалаков, не разбирая их голосов. Бытие слабо пульсировало.
И тут вдруг — русская весна. А что было до этого? Какое время года? Какую национальную принадлежность оно имело?
Музыка — едва ли не единственное, что придавало им ощущение общности. В голове их происходило что-то вроде баттла между условным московским рэпером и условным киевским. Только их слова могли они всерьёз расслышать, только их доводы — осознать. Остальные взрослые — были едва различимы, не опознавались как свои.
И тут — Хаски. Он качнул чашу весов.
Хаски образовался на сцене — и все руки потянулись к нему. Он начал читать первые куплеты — замолкая всякий раз посредине строки, — и выяснилось, что все помнят текст наизусть: дети, которые восемь строф Александра Сергеевича или Тараса Григорьевича заучить не в состоянии.
То же самое случилось и на второй песне, и на третьей, и на десятой.
«…не хочу быть красивым, не хочу быть богатым, — я хочу быть автоматом, стреляющим в лица…»
Хаски, словно подранок, метался по сцене.
У него поминутно будто бы отваливалась голова, и её надо было придерживать руками.
У него явственно болело всё: внутри и снаружи.
Даже не понимая ничего из произносимого им, можно было догадаться об одном: с этим придётся иметь дело, это создано из человечины.
Хаски упал со сцены на вознесённые руки — его принесли обратно; поставили на помост: стой, не поскользнись. Упал ещё раз — снова вынесли. В третий раз — долго плескался на руках, пока не провалился на пол; но и там, лёжа, не перестал читать, не забыл ни одной буквы; толпа стояла над ним, как стая малолетних нянек, — хоть и сами птенцы, но уже догадались, что топтать себе подобное нельзя: надо помочь подняться, выбраться.
Не прекращая песни, странным, через весь зал кругом, Хаски вернулся на сцену и сказал: «Поехали», и взмахнул рукой.
В России говорили: это новый Есенин. Так дураки, никакой поэзии не знающие, всегда говорят: новый Есенин. Если их спросить: а почему не новый Дельвиг, почему не новый Гаршин, почему не новый Хармс? — они быстро заморгают: действительно, почему? И что это за имена? Они тоже читают рэп?
Если его и роднило с Есениным хоть что-то — Хаски был будто бы недолговечный, ломкий; и, кстати, тоже занозистый, заусенистый; хотя Есенина воображают как гладкого — чтоб гладить по волосам, и называть приторным уменьшительным именем… — а он бы на вас матом, а?.. Именно так и сделал бы, между прочим.
Многие из его собратьев по ремеслу делали вид, что они стопроцентные, что они true, — но именно за Хаски стоило бояться, как за настоящее (бойцы так и относились к нему: бережно).
Чудо, которое даровало ему удачу, он последовательно ставил под удар.
Но во всём, что он делал, была внутренняя убеждённость в огромности своего дара.
Эта убеждённость и это знание — дарили ему свободу.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
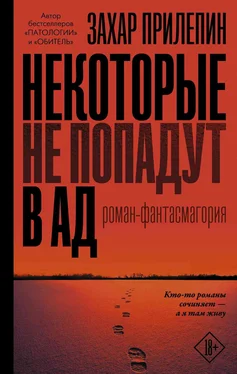
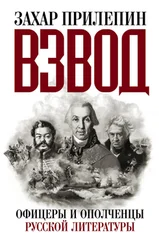






![Захар Прилепин - Всё, что должно разрешиться. Хроника почти бесконечной войны - 2013-2021 [litres]](/books/430624/zahar-prilepin-vse-chto-dolzhno-razreshitsya-hronika-pochti-beskonechnoj-vojny-2013-2021-litres-thumb.webp)



