Я все правильно понял?
Она, эта женщина, которую я испугался-то, она с улицы была. Такая же нездоровая и сердитая, как сама улица. Вся как будто из синих ветвей. Кожа прозрачная. Как папиросная бумага. Глаза водянистые. Нам было все равно. Совпало. Один стакан на двоих. Я был пьян смертельно. Уже два дня. Не помню, каким образом она возникла. Она дышала, помню ее дыхание. Тяжелое. Я не должен был ее запомнить. Мне нельзя было ее запоминать. Ногти темные, крепкие. Пальцы цепкие. Слышал тележку. Бедра. Кто-то катил тележку за окном, не позволяя радости и счастью, не допуская. Так называемая реальность. Пара мешков с битым стеклом. Долги и желоба тут же, немедленно. Белье безрадостное. Мутное пойло, мыло, бедра, пот, молчание. Марш, марш. Аппетит, сосуды, наволочки. Закусывали друг другом. Трубы молчали. Город в недоумении. Взорвался, заплакал. В этом-то все и дело. Так, наверное. Восторг, жалость, страх. Ударил, кажется. Даже если не ударил – ударил. Потом потолок. Лестничные площадки. Мерцание. Пара рыжих кошек. Неожиданно толстых. Марш, марш. Ни единого звука. Ей суждено было исчезнуть. Думаю, она вскоре умерла. Она или я – не помню. Память истончается. Шекспира уже не воспроизвести. Даже сюжет. Уже не помню, женщина или мужчина. Город помню. Трубы пустые.
Нью-Йорк уютный. Сдобой пахнет.
Отпускает. Кажется, отпускает. Оно, знаете, как-то волнами. Как инфлюэнца. А мы с вами вот что, как только немного распогодится, по грибы пойдем. Любите грибы собирать? Стеклянный груздь. Его еще называют февральский груздь. Подснежники. Сугроб разгребаешь, а там семейка. Мал, мала, меньше. Вам-то снег, наверное, в диковинку? У вас в Иордании снега, пожалуй, нет? Или я ошибаюсь? Ну, если захотите – лето, пожалуйста. Летом грибы тоже растут. Даже больше. Это уж как день задастся. Тут уж что-то одно, либо сливки, либо черный дождь. Картинки, преимущественно, лаковые, как в горячке.
А можем в Баллас пропутешествовать. Любите голубей? Там, в Балласе, и зимой радуга. Вы не сомневайтесь, я о вас никому не скажу. Даже думать о вас не смею. Не в моих интересах. Только не думайте, что я дорожу нашими беседами. Скорее проявляю учтивость. Но вы меня не раздражаете, не отвлекаете. Меня теперь ничего не раздражает. Незримо. А то, вдруг, галоп. Так безопаснее. Немцы не дремлют. Никогда не дремлют. У них такие механизмы, линзы. Всегда этим отличались. Но бояться не нужно. Их прямые линии подводят. За исключением Вагнера, конечно.
Линзы превосходные. Лучшие. Я по очкам скучаю. Привык. И по лысине своей. Вот уж никогда бы не подумал. А вы по своей лысине скучаете? Была у вас лысина? Обязательно, обязательно. Если до пятидесяти дотянули – обязательно. Даже если и не догадывались. Лысины женщины первыми обнаруживают. Ну, да ладно. Вам, наверное, не больше тридцати. От тел избавились, и то хорошо. Будто бы избавились. Ну, вы-то понимаете, о чем я говорю. Словом, зиму как-нибудь переживем, перекантуемся. Кант. Вспоминайте Канта. Стихи – не советую. Ложные впечатления, беспомощность навевает.
Впрочем, зачем?
Работаем на результат. Вот где главная ошибка. И никто по большому счету не знает, чем он обернется, полученный результат, и вообще что такое результат. А народ пестроту любит. Ну, что с этим поделаешь? Любит. Не любит. Любит, любит. А чем плохо лоскутное одеяло? Не совершенство разве? В особенности, если на нем солнышко изображено. Не совершенство разве? Всю жизнь лоскутное одеяло составлял. Но разве одной жизни достаточно? Послушай, голубчик, ты, голубчик, похлопочи, сделай доброе дело. Если, разумеется, вхож, если это в твоих силах. Надо бы мне еще немного потрудиться. Слегка. Не закончил. Поговори. А вдруг? Не могу я в неведении. Рано. Вот чувствую. Прости. Простите. Минутная слабость. Волна. Порыв. Здесь все волнами, порывами – дыхание утрат. Все еще страстьми обуреваем. Инфлюэнца. А вы там не на сквозняке? А то, смотрите, подхватите что-нибудь телесное, почернеете. Николай Андреевич долго болел. Я его травками отпаивал. Чередой да фенхелем. А я не пойму, буду думать, что вы моя тень. А вы не тень? Вообще они правы – те, что прислали вас. За мной глаз да глаз нужен.
О чем, собственно речь? О величии. Как всегда. Ну, хорошо, о первозданности, неповторимости. Давайте начистоту. Что, разве создала природа более совершенного композитора, чем ваш покорный слуга? Харон, когда в первый раз встретил меня, снял картуз. Как перед Раскольниковым. Только что убийцей не назвал. Я даже смутился. Хрон уже не тот Харон. Списан на берег, как говорится, подчистую. Представляется Ягатьевым Алексеем Ильичом, нормальным физиологом в отставке. Ну, правильно, Харон уже не звучит. Точнее, не так звучит. Другой регистр. Си-бемоль. С виду бомж. Увидите этого Алексея Ильича, так и подумаете бомж. Всегда с похмелья. А как вы хотели? Никак не хотели? Согласен. Теперь поездами, дирижаблями доставляют. Вот ведь, время вроде бы вспять пустилось, снег снизу вверх падает, а технике хоть бы что. Мы с Алексеем Ильичом дружим. Он не святотатствует, может перочинным ножиком мужика вырезать, медведя. Любимая игрушка. Подойдет, бывает, тоненьким голосом, – Пожалуйста, хотя бы одну рюмочку. Христа ради. Помираю. А с древними не общается. Думаю, обижен. Обрусел. Наливаю, мне не жалко. Бутылок, сами видели, сколько. Да у него не меньше. Ему общение нужно. Выбрал меня – музыку любит. Что-нибудь незамысловатое, песенки, кошачье мурлыканье. Я умею мурлыкать в точности как кот. И вообще ничто кошачье мне не чуждо.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
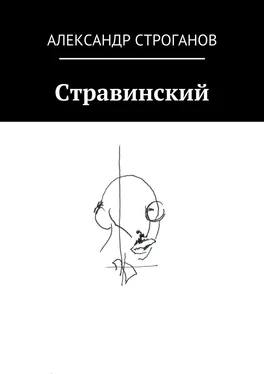



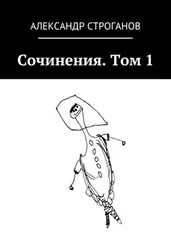

![Александр Строганов - Проводники времени [litres самиздат]](/books/437569/aleksandr-stroganov-provodniki-vremeni-litres-sam-thumb.webp)

