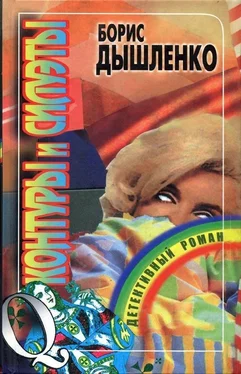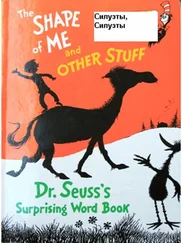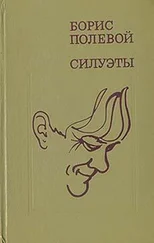Я прошел еще немного и вошел во двор капеллы, откуда дворами можно было пройти на Большую Конюшенную, но я туда не пошел. Справа от меня была арка, ведущая в небольшой, четырехугольный, замкнутый дворик. По правую руку несколько ступенек наружного крыльца поднималось к входной двери. Я взошел по ступенькам и оказался в довольно чистом подъезде. Крашенные темно-зеленой масляной краской стены, решетчатые перила, простые, как в хрущевских пятиэтажках, люминесцентные лампы, с нижней площадки просматривалось еще три этажа. Придерживаясь за перила, я поднялся на второй, потом на третий этаж. Здесь на площадке было немного строительного мусора, прислоненные к стене, стояли оторванные дверные наличники. Я потянул на себя дверь и остановился на пороге. В квартире кто-то делал капитальный ремонт: старинный, давно пришедший в негодность паркет был снят и сложен штабелем в одном из углов большого помещения, вероятно будущей гостиной. Еще недавно эту площадь занимали три средних размеров комнаты, но перегородки были сломаны — это было видно по остаткам разного цвета и рисунка обоев и неоштукатуренным, с кусками серой дранки полосам на потолке. Похоже, какой-то новый русский уже купил эту бывшую коммуналку и теперь перестраивал ее для себя. Ступая с балки на балку, я перебрался через этот зал до дверного проема. Тяжелая много раз крашенная дверь была снята с петель и стояла рядом на двух балках. Я вошел в небольшую комнату. Паркет здесь, хоть и очень грязный, сохранился. В комнате был старый письменный советской работы стол, стул и обитая дерматином медицинская кушетка, заваленная ватниками и еще какой-то спецодеждой, больше здесь ничего не было. Я подошел к высокому со старинным переплетом окну и с некоторым трудом открыл его.
Передо мной лежала Дворцовая площадь, когда-то, если верить легенде, через нее к Зимнему дворцу устремились в героическом порыве революционные толпы. Если верить легенде. Потому что что-то подобное говорят и о Бастилии. А кто-то говорит, что все было совсем по-другому. Говорят, что охрана просто покинула Бастилию, а восставшие парижане выпустили из этой тюрьмы только пятерых-шестерых, остававшихся в ней уголовников и известного теперь во всем мире сексуального оригинала маркиза де Сада. А Зимний дворец... Теперь пишут, что никаких революционных масс, штурма вроде бы не было, а была кучка привезенных из Кронштадта пьяных матросов да сотни две разложившихся солдат. Но те, кто придет сюда завтра: и правые, и левые, и еще какие-нибудь — все будут чувствовать себя героями, штурмующими Зимний. Площадь будет заполнена толпами самого разного и по-разному настроенного народа, патриоты будут кричать о заговоре инородцев, демократы — жаловаться на происки красно-коричневых, будут еще и третьи, и четвертые, но все будут пытаться перетянуть на свою сторону трех уже мертвых певиц. “До четвертой, — подумал я, — потому что после нее начнется светопреставление”. Я вспомнил слова полковника о том, что в этих условиях он не поставил бы на стрелка, а, в принципе, теперь уже и не важно куда.
Я подумал, что при такой толпе завтра над площадью будут сильные восходящие потоки.
По пути, на Васильевском я нашел еще четыре поврежденных плаката: два с портретом Марины Гринько и два других — один из них мужской. Это не были черные метки и не были подсказки, и помеченный певец не был джокером — и здесь кто-то, желавший поставить на “фаворита”, пытался сбить с толку других.
В конце концов все это меня даже развеселило. Я понял, что развязка близка, но соблазн сыграть с чертом был все-таки велик. “Никогда не садись играть с чертом”, — я не забывал этого, но ведь это смотря чего ты добиваешься: если хочешь выиграть, то не садись, но может быть, ты просто хочешь сорвать ему игру. Однажды это уже было, и это мне дорого обошлось: было о чем поговорить с полковником, но мы оба старались эту тему не развивать. Даже подробности моего собственного дела, мое досье, теперь меня не интересуют — ведь, в сущности, все ясно. А полковник... Если верить ему, он тогда даже помог мне, включив в группу, проводившую у меня обыск, капитана Сережу. Конечно, позже, когда ситуация в корне изменилась, он, наверное, записал это себе в актив, и, возможно, рассказывает теперь об этом на встречах со своими избирателями или его доверенные лица рассказывают об этой стороне его деятельности вместо него — скромность украшает человека. Был когда-то полковник Зубатов, игравший тонко и успешно, но использовавший в качестве джокера злосчастного попа Гапона и здесь проигравший, а ведь в царское время полковники имели большую свободу, чем при коммунистах.
Читать дальше