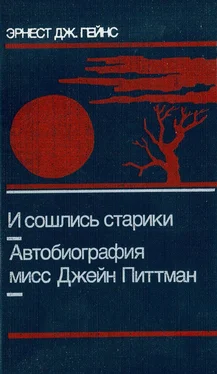Кто-то ответил, что у Евы. Мальчик Питер, еще младенец.
— Так вот, это касается всех, от Джейн и до ребенка Евы, Питера, — сказал Роберт.
Он вошел в дом, а мы повернулись и пошли назад в поселок.
Не прошло и месяца, как Бэтло принял участие в какой-то демонстрации протеста в Батон-Руже, и каким-то образом слух дошел до Семсона. Роберт пришел в поселок и сказал Йоко, чтобы через двадцать четыре часа ее духу тут не было. Йоко заплакала. Она сказала, ей не под силу справиться с Бэтло — с нынешними детьми разве справишься? Она сказала, что работала здесь, когда еще был жив отец Роберта, мистер Поль, и мистер Поль сам говорил, что она у него одна из лучших работниц. Роберт сказал, что у нее осталось двадцать три часа пятьдесят девять минут, и ни секунды больше, чтоб убраться отсюда.
Когда он ушел, Йоко послала ко мне сынишку Страта, сказать, чтоб я поговорила с мисс Аммой Дин. Когда я пришла туда, Берта мне сказала, что у мисс Аммы Дин болит голова и она прилегла.
— А давно у нее голова заболела?
— Как она увидела в бинокль, что вы сюда идете, так у нее голова и заболела, — говорит Берта.
— Может, мне подождать? — спрашиваю.
— Без толку, — говорит Берта. — Не пройдет у нее голова, пока Йоко не уедет.
— А с Робертом она говорила?
— Говорила. Но он стоит на своем: чтоб Йоко отсюда убиралась.
Я пошла назад в поселок. Меня нагнал Брэди на машине и подвез к дому Йоко. Она уже начала укладываться. Она заранее знала, какой будет ответ. Вечером все пришли ей помочь. А как кончили укладываться, так сели и проговорили до поздней ночи.
На другой день Йоко уехала. Брэди собирался взять грузовик у кого-нибудь на реке, но Бэтло сказал, что фургоны будут лучше. Он хотел ехать через поселок медленно, чтобы все видели, как обошелся с ними Роберт Семсон. Он даже написал плакаты, чтобы повесить на фургонах. ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ МЫ РАБОТАЛИ ЗДЕСЬ НА РОБЕРТА СЕМСОНА, А ТЕПЕРЬ ОН ВЫШВЫРНУЛ НАС ОТСЮДА. ВОТ УЧАСТЬ ЧЕРНЫХ.
В первый фургон погрузили мебель: кровать, стулья, печку, комод и еще шифоньер. Йоко не завесила зеркало на шифоньере, и оно ярко сверкало. Как только его поставили в фургон и пока они не выехали из поселка, оно так и сверкало — на все пустыри, где раньше были дома, а теперь тянулись поля кэдженов, на старые дома и старые заборы. И на людей сверкало. Фургон остановился перед моими воротами, и это зеркало пустило мне на веранду целый сноп света.
Йоко ехала в последнем фургоне. Она сидела на самом верху. Бэтло велел ей сесть повыше, чтобы все видели, как поступил с ней Роберт Семсон. Мы боялись, что Йоко свалится, но Бэтло хотел, чтобы она сидела там.
Этот день я тоже никогда не забуду, слышите? Йоко сидит наверху и плачет, мы стоим внизу и плачем. Йоко машет рукой с фургона, а мы машем у ворот и на веранде. Машем так, будто провожаем покойника. Ведь если вы не едете за гробом до кладбища, то стоите и машете на прощание рукой. Лучше махать белой тряпочкой или носовым платком. Мужчины, конечно, снимают шляпы и почтительно прижимают к груди. А женщины машут. Вот и мы все махали.
— Прощай, Йоко, прощай!
А Йоко сверху:
— Прощай, Этьен. Прощай, Лина. Прощай, Джейн!
А мы снизу:
— Прощай, Йоко, прощай!
И года не прошло, как бедняжка Йоко умерла. Она поселилась у дочери в Порт-Аллене, но не прошло и года, как она умерла. Дети хотели похоронить ее в Сан-Райзе, где у нее были родные, но мы знали, что она хотела покоиться рядом с Уолтером, и уговорили их. Роберт сказал, что ему все равно, если они на кладбище никаких демонстраций устраивать не будут. Дети привезли Йоко назад в Семсон, и она лежит тут рядом с Уолтером. Вот дойдите до последнего дуба у ограды, там они и лежат рядышком.
Скоро после отъезда Йоко в церковь пришел Джимми. Я его больше двух лет не видела. Он приезжал повидаться с Линой, но я его не видела. Я даже удивилась, как он вытянулся. Высокий, худой, а глаза серьезные-серьезные. Он подошел ко мне и заговорил. Сказал, что был у Лины, но она в церковь не придет, потому что прихворнула. Я сказала, что знаю — я вчера с ней разговаривала. Я взяла его за руку, посмотрела на него и увидела, какие у него серьезные глаза. Он стоял рядом со мной, но мысли его были далеко-далеко.
Это было то воскресенье, когда выходишь вперед и свидетельствуешь, что несешь свой крест, и хочешь встретиться с ними за рекой Иордан, когда умрешь. Потом поешь свою песнь. Начнешь петь, может, до припева дойдешь, как все остальные подхватывают и поют вместе с тобой. Можешь петь сколько захочется, если это хорошая духовная песнь, и все с тобой поют. Йоко, бывало, пела долго-долго. "Отче, простираю я руки к тебе, один лишь ты мне опора". А закончишь петь и опять говоришь, что все еще идешь, а потом пожимаешь им руки, а кто сидит сзади, тем можно просто помахать, если не можешь пойти туда. Потом садишься на свое место, а кто-то другой встает и свидетельствует. Но поет он уже другую песнь. У каждого есть своя песнь, и чужую песнь нельзя петь прежде того, кто ее поет. И даже после нельзя, если ты поешь лучше, потому что это может плохо кончиться. Иногда, если мне нездоровится и в церковь идти я не могу или если мне просто хочется остаться дома и послушать по радио передачу о бейсболе, я сижу у себя на веранде и знаю, кто сейчас свидетельствует. Как услышу песнь, так уже знаю. А за долгие годы, которые я здесь прожила, я этих песней много слышала, можете мне поверить.
Читать дальше