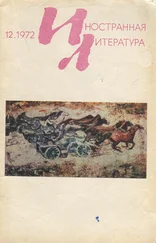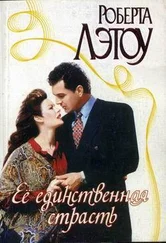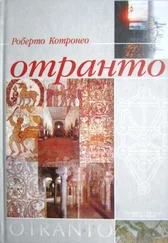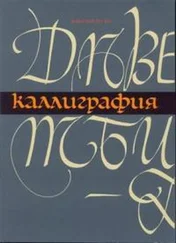Теперь мне предстояло отстраивать свой мир заново. Я чувствовал себя бесплодным, как один из хитроумных Джеймсовых истуканов. Какие там Прелюдии Дебюсси! На что нужны мои руки, если потом какой-то валик может их заменить? Мне начало казаться, что все без толку, что единственный возможный выход — это собрать чемоданы и сбежать куда-нибудь подальше, чтобы никто меня не нашел. Я не думал ни о Соланж Дюдеван, ни о Шопене: я думал о моей Соланж. Я должен был найти ее, и это было последнее, что мне оставалось сделать в Париже. Даже если я прекрасно знал, что это ничем не кончится. Потому что мир живет не по законам Партиты Баха, а по законам Прелюдии Шопена. Он держится не на ясной геометрии чисел, а на паузах и неразрешенных звуках. Как та ночь, когда я задремал подле Соланж. Мои веки вздрагивали, словно ловя вращение земли и голоса ее хранителей, требующих с меня ответа за мой талант: как я распорядился им и почему так, а не иначе, когда и на что я потратил его. Мои привилегии имели цену, и, похоже, пришло время их оплатить. Вот только никто не объяснил, как. Я уже решил, что настал момент покинуть этот мир. Я получил от жизни все, даже вот эти ворсистые странички, на которых Шопен начертал завещание своей страсти. А не оставлю ничего, кроме музыкальных записей. Ни страстей, чтобы одарить потомков, ни писем, чтобы разослать любимым, ни детей, с кем разделить горести.
И мой Стейнвей окончит свои дни даже не в музее, а в какой-нибудь студии звукозаписи. Меня охватил гнев на самого себя. Я всего лишь исполнитель. Только в музыке это слово имеет смысл положительный и даже указывает на талант и определенную утонченность. Обычно же им пользуются, чтобы обозначить посредственность, выполняющую роль подручного при мыслящих существах. Киллеров, между прочим, тоже называют исполнителями. Оттого я и злился, и воображал, что моя рукопись — не что иное как шифровка, ибо шифровки доступны лишь пониманию мыслящих, в то время как исполнители нуждаются в примитивных указаниях и традиционных пентаграммах. Потом мне пришло в голову, что рукопись была поддельной, а я угодил в центр заговора, неизвестно кем составленного. Я хохотал над тем, как легко позволил заманить себя в ловушку из нот, написанных то слишком нерешительно, то слишком жирно. Но и на этом я не останавливался, а шел дальше. Соланж? Моя Соланж? Не более чем болезненное порождение моей чувственности. Я сам не желал называть ее другим именем. Сын мира, увлеченного игрой имен, событий и слов, я был болен параллелизмами. Зачем же в таком случае пускаться на поиски собственной выдумки? Чего ради страдать? И нужно не возвращаться в то кафе, а наоборот, затвориться в собственном мире, захлопнуть двери, и, бродя по роскошным комнатам, утешаться собственной игрой и разбираться, как дошел до жизни такой. И не видно было другого выхода, кроме как решить, что вообще ничего не было, и выбросить из головы эту чрезмерно великолепную историю. Так прошло несколько дней, не могу сказать, сколько: два, три, пять?.. И, к счастью, я опомнился и заставил себя отправиться на поиски Соланж. Моей Соланж. Я стал бриться, вернув себе утраченную элегантность, и, что самое главное, начал заниматься с прежней регулярностью и снова взялся за прерванную работу над Прелюдиями Дебюсси. В кафе я решил брать с собой «Сильвию» Жерара де Нерваля, уверенный, что книги притягивают желанные события.
Теперь дело пошло как в Каноне с Вариациями. Каждый вечер я пунктуально, около восьми, появлялся в кафе за одним и тем же столиком с неизменной книгой под мышкой. Оставался я до полуночи, а иногда и позже. Сидел, читал, поглядывая по сторонам и не проявляя излишнего волнения. Я понимал, что она не сможет миновать мой столик, если появится, и поэтому ждал спокойно и даже с удовольствием. Время от времени меня отвлекал какой-нибудь завсегдатай, и я с любопытством наблюдал за ним: это была вариация, похожая на резвые переплетения нот, доступные лишь Баху, и по точности и единству ритма напоминающие коллекцию хорошо отлаженных часов. Обычно это длилось недолго, и снова возвращались вариации, созвучные моему спокойному созерцательному настроению. В эти вечера я пил все подряд, начиная с кофе. Потом следовало виски, иногда перно. Случалось, что я возвращался домой нетвердой походкой, а вернувшись, садился за фортепиано и играл музыку, которую в трезвом виде и слушать бы не стал, тем более в собственном исполнении.
Много чего случалось в те вечера, и я начал смотреть на мир иными глазами, замечая суетящихся вокруг людей. Меня охватило то опьянение, что обычно испытывают артисты, волею случая получившие возможность просто пожить «в миру». Они радуются, как дети, попавшие на стадион: глазеют на разноцветные огни, съезжают с «русских горок», позабыв об опасности. Даже налет того аристократизма, которым я гордился всю жизнь, чуть-чуть с меня сошел, по крайней мере, мне так казалось. Однажды я увязался за небольшой компанией музыкантов в Марэ. Поначалу я держался в сторонке, потому что не мог играть их музыку, хотя она мне и нравилась. Я слушал их пианиста, игравшего великолепно и вытворявшего на клавиатуре такое, что мне бы и в голову никогда не пришло. Наконец я не выдержал и сел за фортепиано, и помню, как вытянулись их лица, когда я заиграл си-бемоль-мажорное Скерцо Шопена и один из Трансцендентных этюдов Листа. А с рассветом миновал тот час, когда бессонница валит с ног, усталость растворилась в сиреневом предутреннем свете, и я вновь оказался в своем кафе, но уже в компании какой-то девицы. Я не владел правилами игры в обольщение, которую она мне предлагала, и ей оставалось только удивленно таращиться на пожилого джентльмена, так здорово игравшего ночью. Я ей явно понравился, но нас разделял барьер, для нее непреодолимый.
Читать дальше