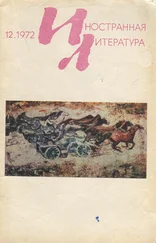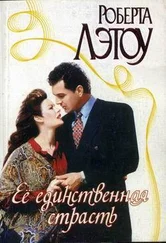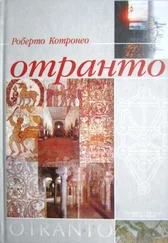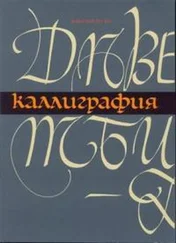Аналогии, снова аналогии. Ясно, что низкий звук заглушает высокий. Струна двухсантиметрового диаметра вибрирует гораздо сильнее, чем тонкая четырехмиллиметровая. Сие есть факт физический, но не философский. Однако похоже, что на этих двух страницах нотного текста лежит печать рока. Словно даже в музыке Шопен не мог избавиться от своей боли, от сознания, что жизнь уходит от него, и он бессилен что-либо сделать. Джеймс растревожил меня: когда мы виделись в Лондоне, он поведал мне о Ноктюрне и о пассаже, не дававшемся ему. Теперь он рассказывал и вовсе волшебную историю, которая развертывалась перед моими глазами в ритме Эрика Сати. Я вглядывался в лицо Джеймса, стараясь представить, каким он был пятьдесят лет назад. Скулы, пожалуй, более жесткие, нос тоньше, лоб глаже и без морщин, а вот синие глаза, которые с годами должны были стать более водянистыми, наверняка сохранили свою живость. Он не сутулился, наоборот, отличался атлетическим сложением, но тогда, в далекий летний день, его фигура должна была казаться более хрупкой, принимая во внимание, что росту в нем было не менее метра девяносто. Зачем он рассказал мне эту историю? Что общего было у Соланж Дюдеван с его девушкой на лугу? И что могло объединять щемящее чувство утраты с каллиграфией страсти? Мне не удавалось избавиться от непрерывно наплывающих друг на друга картин моего и чужого прошлого, возникающих неведомо откуда. Я пытался сопоставить Джеймсову тоску с моим порывом к плоти, к моей Соланж, которую знал всего лишь одну ночь. И мне подумалось, что для меня все дело здесь не в явлениях и откровениях, а в странных и болезненных пересечениях сюжетных линий. Для Джеймса более ценна была боль, пережитая в прошлом, чем само прошлое. Я же был устроен по-другому. Я бы непременно выбежал за «девушкой на лугу», не позволил бы ей так просто исчезнуть из моих окон. И сегодня, как знать, мне бы было известно ее имя, где она живет, что делает. Есть во мне тяга к обладанию, будь то обладание неодушевленным предметом или человеком. Я переживаю потерю непосредственной близости так же остро, как Джеймс — потерю прошлого, которое для него ярче настоящего.
«Недавнего прошлого, маэстро, не того, что миновало давно, — произнес он, и я застыл от удивления, потому что он словно бы вел внутренний молчаливый диалог со мной, отслеживая мои мысли. — Я умею уживаться с далеким прошлым, зато плохо справляюсь с недавним. Это как следить за уходящим поездом: последний вагон рождает более тоскливое чувство, чем пустые рельсы с виднеющимся вдали составом. Кто знает, может, это один из способов переносить пустоту, возникающую вокруг тебя».
Я взглянул на рукопись, не проглянет ли сквозь паузы или длинные ноты ощущение окружающей пустоты. Ничуть не бывало. Этим страницам не требовалось молчания, им хватало кратких мгновений внутреннего трепета, предвосхищающих великую музыку, которой нет равных по силе и напряжению страсти. И чем дальше, тем сильнее казалось, что нотные знаки мчатся в одном направлении. Так вот что означает по-иному читать партитуру. В этом есть нечто от техники импрессионизма, Сами значки ни о чем не скажут; чтобы увидеть их рисунок, нужно смотреть издали и помнить, что он раскроет свой смысл, только достигнув определенной завершенности. Как у Моцарта, чья музыка всегда останется отстраненным монолитом, сколько ни ходи вокруг да около. Джеймс, с его склонностью ошеломлять собеседника, был бы весьма доволен моими выводами. Но я и сам немало разглядел в этих страницах: хотя бы короткие паузы, буквально втиснутые между тридцать вторыми нотами и создающие дискретность, воспринимаемую разве что внутренним слухом. Каждый из нас двоих находил свое в этих неповторимых, гениальных, начертанных вкривь и вкось нотных знаках. «Пишите, пишите, маэстро, я ведь намереваюсь попросить Вас сыграть мне эту музыку — хотя мне, пожалуй, хватило бы того, что я прочел и увидел», — сказал Джеймс, снова любуясь своей всеведущей интуицией. А я подумал о Евгении. Не занесли ли его случай или судьба снова под мои окна как раз в тот момент, когда я собирался сыграть Балладу с финалом, написанным для Соланж? Чем была бы для него эта музыка — только лишь воспоминанием о пережитом, или он тоже принялся бы искать в ней смысл бытия? Думаю, что его мир находился в ином измерении, не определяясь партитурами. Спустя некоторое время мне показалось, что я видел его в метро, в районе Рамбюто. Это был единственный раз, когда я забрался в «чрево Парижа». Не уверен, что это был он. Я со спины видел его входящим в вагон и уносящимся в веренице освещенных окон. Сыграв Балладу Джеймсу, я высунулся из окна и внимательно огляделся. Мне почудился силуэт мужчины, быстро переходящего мост между Ситэ и Иль-Сен-Луи. По-видимому, показалось. Но мне очень хотелось, чтобы судьба привела его в тот вечер под мои окна. Ведь вряд ли Евгений сможет еще когда-нибудь услышать эту музыку.
Читать дальше