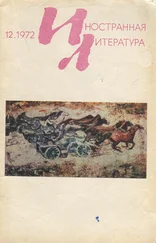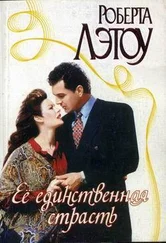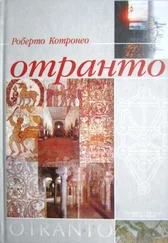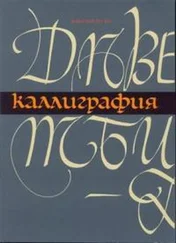Джеймс — другое дело, хотя он изрядно меня смущал своей компетентной безмятежностью, абсолютно непроницаемой для эмоций. Общение с ним мало походило на беседу с консультантом, скорее на ночной разговор двух мужчин, влюбленных в одну и ту же женщину. Он старался придерживаться доводов рассудка, а я все с тоской пытался найти хоть ниточку, хоть зацепочку там, где уже нечего было открывать.
Ничего не получалось, кроме как читать эти две страницы как каллиграфию страсти. Шопен стал жертвой компромисса, пытаясь соединить в одно целое Хорошо Темперированный Клавир и дух романтизма. Его страсть не была порождением перехода из мажорного строя в минорный, как будто этот минор связан в музыке с отсутствием или уменьшением осмысленности. Да и о чем это я, почему я стараюсь любой ценой отыскать тень Керубини на этих страницах? Ведь в Буэнос-Айресе, слушая танго Иньяцио Гарделя, я был очарован музыкой, которую всегда считал далекой от моей культуры и строгого музыкального воспитания. То же самое случилось, когда мой приятель джазист научил меня нескольким рег-таймам, и я понял, что Скотт Джоплин ближе к Баху, чем многие виртуозы XIX и XX веков.
А теперь, вчитываясь в музыку человека, который в мыслях уже попрощался с миром, я испугался: забыв сразу все свои танго, босановы и регтаймы, я снова начал мыслить, как воспитанник «Шага на Парнас» Муцио Клементи. Я строил свои оценки по принципу степени трудности, сквозь лупу виртуоза, дойдя до того, что ощутил себя музыкальным автоматом, вроде тех махин, что стоят у Джеймса. Он ведь тоже сперва разглядывал мою рукопись через лупу, потом далеко отводил от глаз, чтобы, отрешившись от деталей, ухватить общий вид листков. Только у меня вместо валиков, винтиков и колков — кости, сухожилия и мускулы. А мои руки — компьютеры, запрограммированные годами на исполнение определенного репертуара. Может, за всю жизнь я сыграл около пятисот произведений. Всего пятьсот — и семьдесят лет за фортепиано! Разве не ненавидел я судьбу за то, что она обрекла меня всю жизнь играть чужую музыку? Подтрунивая над моим отчаянием, мой друг — писатель однажды сказал: «Момент истины короток. А дальше следует комментарий. Ты, как все, обречен комментировать моменты истины в твоих партитурах. Все мы так поступаем, и деваться нам некуда. Таков наш век — век бесконечного комментария». Стоило ли говорить это Джеймсу? Он ничего не мог сыграть, потому что у него что-то там было повреждено в руке (или, как утверждали злые языки, в мозгах). Все музыкальные машины, которые он тащил в дом со всего света, ему удавалось прекрасно отремонтировать. В них всегда можно было что-то заменить. Но, как сказал бы мемуарист-романтик, душу починить нельзя, и это, пожалуй, верно. Записывая Прелюдии Дебюсси, Джеймс мстил окружающему миру, своей же манерой читать ноты он мстил самому себе. Было в ней что-то выходящее за рамки музыки и за рамки всех псевдо-музыкальных аналогий. Я пытался описать эти две страницы нотного текста с позиции парашютиста в свободном падении, летящего мимо непроходимых стенок, недостижимых вершин и нотных водопадов. Я конструировал мир образов и движений, которые, как мне казалось, могли смоделировать эту музыку, не поддающуюся описанию. А он читал то, что было уже за пределами самой музыки, где-то между критикой и графологией. «Взгляните на эти ноты, взгляните хорошенько. Шопен будто бы зарисовал порыв страсти. Этот бешеный трехоктавный взлет квартсекстаккордов, кажется, нарочно написан так неровно и беспорядочно. Ноты словно попадали, сбитые со своих мест порывом ветра, рожденного этой музыкой. Так и хочется встать и затворить окно, чтобы звуки, наконец, встали по местам».
Джеймс фантазировал, наслаждаясь взятым реваншем. Разве мог я, привыкший к ясным печатным изданиям, разглядеть все это? Я не шел дальше определения места ноты на линейке. Этому меня научили. Но скоро и компьютеры этому обучатся, если уже не обучились.
«Ну, как тут не подумать о Соланж Дюдеван? — бормотал Джеймс словно бы про себя. — Любопытно, но все биографы обходят этот вопрос с поразительной деликатностью, будто бы Шопен — их ныне здравствующий родственник. Это табу действует вот уже 130 лет, и для нас немыслимо перешагнуть через него, хотя основания имеются. Соланж была женщиной неотразимо, вызывающе чувственной, веселой, легкой. Именно это и должно было нравиться Шопену, помогая ему на время избавиться от тоски, все чаще одолевавшей его. Что произошло между ними, мы никогда не узнаем: кто-то постарался уничтожить все документы. Но по этим страницам я вижу, что Шопен был в смятении, в отчаянии от какого-то потрясшего его события».
Читать дальше