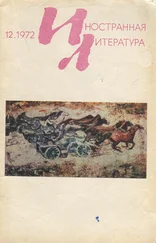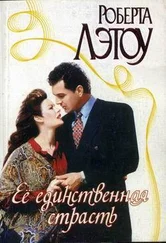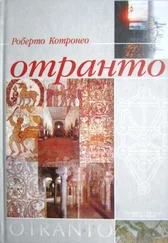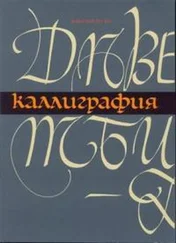Где же скрывалась тайна Шопена? Может, в каком-то еще не найденном или уничтоженном письме? Или в лежащих передо мной страницах, так долго странствовавших по Европе? Время обволакивает все налетом романтической патины. В том портрете, что годами складывался из свидетельств друзей и знакомых, уже невозможно распознать реального человека Шопена. Светский и возвышенный, скучающий и меланхоличный, он был способен на глубокую, невысказанную ненависть. В одном все силятся быть единодушными: до последних мгновений жизни он спрашивал о мадам Санд, не пришедшей даже взглянуть на него на смертном одре. И это коллективное усилие не желает оставлять сомнений потомкам. Шопен всегда — само совершенство («Какой утонченный человек!» — восклицает Делакруа), он всегда готов быть великодушным, он страдалец, окруженный ореолом святости.
Я вглядываюсь в строчки моей рукописи… Как же много отнимает у нас светская патина! Это не почерк бравого вдохновенного любовника, что даже в смертный час справляется о возлюбленной. Это почерк обнаженного чувства, не спрятанного за полунамеками и полукрасками. Мне хочется другого Шопена, потерявшего голову от страсти, ничего общего не имеющего с жеманным романтизмом своей эпохи.
Какую невыносимую муку должен был испытывать он в окружении посредственностей! Признаю правоту Бодлера, который писал о Жорж Санд: «Она никогда не была художником, хотя и владеет текучим слогом, столь милым сердцу буржуа. Она глупа, тяжеловесна и болтлива, ее моральные концепции и тонкость эмоций хороши для консьержек или содержанок, И тот факт, что столько мужчин позволили себя очаровать этому отхожему месту, говорит лишь о степени падения сильного пола в наш век».
Но ведь среди этих мужчин был и Шопен? Ну, это как сказать! С того дня у меня появилось предчувствие, что разгадка тайны должна быть связана с женщиной, живущей в Париже и носящей имя Соланж, и, возможно, — со старой семейной историей, которую я считал выброшенной из памяти, но которая была не каллиграфией, а настоящей стратегией страсти.
Впрочем, не помню, что приходило мне на ум в ту ночь, когда я, наконец, начал играть две последних страницы.
Сомневаюсь, чтобы за всю свою жизнь Джеймс передвигался быстрее. Я позвонил ему в среду перед ужином, а в 23.52 он был уже у меня. Наверняка схватил билет на первый же самолет до Парижа и гнал такси изо всех сил. Вряд ли когда-нибудь при экспертизе рукописи Джеймс демонстрировал так мало колебаний. Нужно было провести сравнения, проверить некоторые детали, чтобы ответить с полной уверенностью, что эти серо-черные чернила принадлежали перу Шопена. Джеймс же был скор в суждениях и высказывался спокойно. Ему не терпелось узнать, каким образом рукопись попала ко мне. Я охотно рассказал об этом, опустив, правда, некоторые личные подробности. Джеймсу я никогда не сознался бы, что чувствую себя призванным судьбой озвучить эти листки. Он понял бы все слишком хорошо, и это меня смущало. Накануне ночью мне не без труда удалось справиться с двумя последними страницами: я нашел аппликатуру для нескольких трудных мест, но остались еще куски, которые кажутся неисполнимыми даже для пальцев виртуоза. Как удавалось Соланж сыграть эти прыжки в ничто: нисходящие терции в правой руке, восходящие сексты в левой — и все в бешеном темпе? Местами это напоминало наиболее стремительные пассажи из Второй Баллады или из Этюда ор. 25 № 11. Все форте, иногда фортиссимо и легатиссимо. Я словно лез по непроходимо трудной скальной стенке, не имея ни крючьев, ни веревки, постоянно рискуя сорваться. И я спрашивал себя: как не только Соланж, но и сам Шопен мог это исполнить?
Лучше бы не задавать подобных вопросов: теперь я не мог рассуждать просто как пианист-виртуоз. Партитура была намного труднее, чем известный вариант. Шопен записывал эти строчки, насилуя красивую бумагу, а начисто не переписал. Так в рукописи и осталось противоречие между четкой красотой почерка до 211 такта и труднейшими для прочтения и исполнения двумя последними страницами. Он не переписал их, потому что Соланж хотела получить их такими; ей нужно было видеть источник этой музыки. Она не могла услышать ее от Шопена, болезнь не позволила бы ему сыграть. И ей ничего не оставалось, кроме как читать в этих нотных знаках муку и страсть, породившую их. И она запретила переписывать, желая иметь рукопись такой, какой я вижу ее сейчас.
Эта версия меня тоже не удовлетворяла: слишком романтично и примитивно. Толкователи Шопена вдоволь насладились бы образом страдальца, пишущего коду Баллады. А между тем Шопен, рожденный в самой сердцевине романтической эпохи, любил Баха и был композитором огромной творческой ясности. И эта кода, при всем своем головоломном неистовстве, имела в основе геометрическую строгость и походила на блестящее решение математической задачи. Я всю ночь напролет искал это решение, приноравливаясь к исполнению. Около четырех часов утра, взмокший от жары, потому что, играя, вынужден был держать окна закрытыми, я почувствовал, наконец, что партитура обрела форму, и теперь ее можно слушать. И понял, насколько необычной была пианистическая техника Верта и Харитоновича. Ремесленник от фортепиано даже помыслить не мог бы об этих страницах: простого и более спокойного способа их сыграть не существовало. На эту вершину вел только один маршрут. Теперь мне стало ясно, что должен был почувствовать мой друг Евгений, услышав этот текст в дерзком исполнении Харитоновича. Но существовал ли вообще реальный способ сыграть его, или это была последняя шутка Шопена? Я не мог избавиться от ощущения, что здесь что-то не так: неужели только страсть и техника, стремительность и огонь? Неужели Шопен так выражал свое желание, и Соланж попросила именно эту рукопись? Этот нотный лабиринт, лишь отдаленно напоминавший партитуру? Мне вдруг пришел на ум Клаудио Аррау: интересно, что подумал бы он об этих страницах? Я был уже недалек от того, чтобы его вызвать, но потом убедил себя, что нужно разбираться самому. Теперь я жалею, что не разыскал его, по-дурацки рассудив, что негоже двоим пианистам терять голову из- замоих наваждений.
Читать дальше