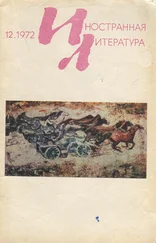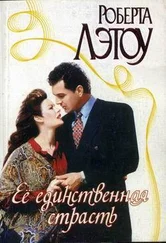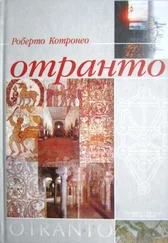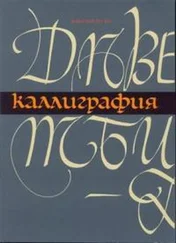Вскоре я уехал из Парижа, и тот раз, когда я играл две заветные страницы, был одним из последних. С того дня я играл их все реже, несмотря на то, что часто к ним обращался, читал их, вглядывался сквозь них, как через увеличительное стекло, в свою душу, в свои страсти и наваждения.
Я не отдал Джеймсу копию партитуры, да он, признаться, и не просил. Сделал лишь описание рукописи: бумага, чернила, почерк… И заверил меня, что свидетельство о подлинности рукописи поступит ко мне тотчас же, несмотря на то, что без самой рукописи это будет связано с определенными затруднениями. «Но я не прошу оставить ее мне, маэстро, и не из-за Вашего ревнивого к ней отношения. Я понимаю, что не могу владеть этой рукописью ни в какой форме. Она принадлежит Вам и предназначена только для Вас, как если бы сам Шопен Вам ее подарил. В конце концов, Вы лучше любого эксперта знаете, насколько она подлинна. Вы это чувствуете и понимаете. Так что мой ответ — не более чем формальное техническое подтверждение. Несколько минут назад, пока Вы играли, мне пришла в голову мысль, но потом я ее выбросил из головы. Мне подумалось, что можно было бы записать ее на один из музыкальных валиков, есть у меня такая машина. Вы ведь, я знаю точно, никогда не сыграете это на публике. Но потом я понял, что не смогу просить Вас "об этом. Как в тот день, когда я не смог остановить девушку, что прошла по лугу и исчезла со сцены. Эта Баллада для меня уже за пределами сцены. Что ж, порой и то, что услышал, может стать откровением. Ну и хорошо, и не надо требовать большего».
Когда он выходил из моего дома, я впервые увидел его таким усталым. Не знаю, но у меня было ощущение, что он с трудом сдерживается, чтобы не повернуть назад, что каждый из его слишком решительных и скорых шагов есть победа над искушением. Наверное, так оно и было. Его воспитание и интеллигентность не позволили ему всерьез попросить меня записать Балладу на валик. А может, его одолела привычная печаль об ушедшем мгновении, о которой он так много мне рассказывал. Я глядел ему вслед, пока он не исчез за особняками в тесных улочках Латинского квартала. Было уже утро, лампа над столом выглядела бледной, бесполезной и какой-то состарившейся. Я сердито выключил ее, оглядел комнату, где все говорило о бессонной ночи, начиная с обильных окурков сигар Джеймса. Рукопись была аккуратно сложена листик к листику. И я подумал, что лучше бы ей лежать сейчас в каком-нибудь музее или в хранилище Британской библиотеки вместе с рукописями Бетховена, Баха и Стравинского. И удивился гневу, охватившему меня.
Давно я уже не могу играть Шопена так же часто, как в лучшую пору. Не то чтобы на это были особые причины. Просто, чем старше я становлюсь, тем меньше понимаю все, что творится вокруг меня. Моя старость соткана из одиночества, которое обычно называют «возвышенным уединением», не подозревая, что это лишь форма одиночества «для избранных». Под старость я постигаю Моцарта и утешаюсь Бахом, музыка которого подобна решению математической задачи и дает ощущение, что жизнь все же имеет смысл, а Вселенная соответствует прославленным и несокрушимым построениям в стиле барокко. Бог Баха создает мир, звезды и планеты, а потом выдает тебе на все это гарантийный талон на случай поломки. Бог Моцарта создает все, от него зависящее, но не дает тебе ключей. Не знаешь, как войти — твои проблемы. Бога Шопена не существует. Если следовать дальше музыкальной мифологии, то он — дальний родственник, образ таинственный и неопределенный. В мире существует гениальность незавершенности; таким гением был Шопен. Нынче усталость не позволяет мне справляться с этой незавершенностью, которую все время нужно дополнять кусками собственной жизни, собственных чувств. Поэтому я и играю Баха, плохо играю, словно назло желая разнести все шестеренки гигантского часового механизма, именуемого Бах. Обращение к Баху — старческая болезнь многих пианистов, истощивших силы на репертуаре, от которого перехватывает дыхание. От этой нехватки воздуха не спасают даже здешние грандиозные пейзажи с вечными снегами вдали и ослепительной зеленью ближних лугов. Дни, последовавшие за встречей с Джеймсом и обретением рукописи, были самыми тяжелыми в моей жизни. Меня настигла депрессия, какой я никогда не знал. Я боялся, что жизнь резко переменится, что заветные страницы снова всколыхнут все мои невзгоды, а поток страсти сметет их вместе с останками человека, которому они служили основой для жизни и таланта. Страшно было выйти из дома и обнаружить, что мир онемел, и настала пора изучать язык жестов.
Читать дальше