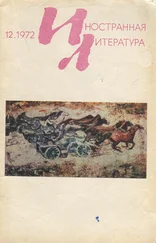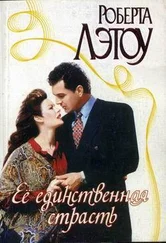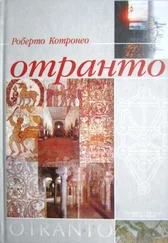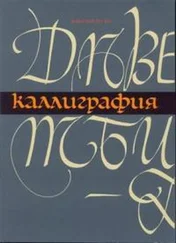Дождь наискось бил по окнам кафе, и капли скатывались вниз, успевая на мгновение приостановиться на стекле. Помню, что потом (но через какое время, когда «потом»?) уже в доме, который я старался содержать в порядке, в соответствии со своей каллиграфией, я ощутил, как тяжело жить в минорной тональности. А она глядела на меня и спрашивала, почему же Шопен так небрежно дописывал последние страницы? Что, Соланж их отобрала прежде, чем он успел переписать начисто, будто спасаясь от натиска страсти, которого ей не вынести? Он оказался жертвой красоты Соланж, и она не смогла бы видеть, как он медленно умирает у нее на глазах.
Смог бы я сыграть ей эти страницы? Об этом я спрашивал себя, еще сидя в кафе. А дождь и не думал переставать, и небо приобрело густо-оливковый оттенок. Не помню, не в эту ли минуту пришел мне на память эпизод, очень похожий на тот, что я слышал от Джеймса. Я увидел себя в гараже, стоящем на краю парка, с девочкой по имени Аннетта. Гараж этот имел двойной вход: одна дверь вела на улицу, а другая внутрь. Аннетта часто перелезала через забор, чтобы поиграть со мной. В то лето ей должно было быть лет тринадцать. Я замечал, как она менялась день ото дня, и это меня будоражило. Помню, в такой же дождливый день, когда вода наискось хлестала по стеклам, она вызвала меня и с заговорщицкой улыбкой привела в гараж, где хранились старые повозки. Повалив меня на землю, она спокойно, медленно спустила с плеч лямки промокшего платьица, и я понял, что под платьицем у нее ничего нет. Прежде чем я успел опомниться, она с необыкновенной ловкостью обхватила меня ногами, а движения ее таза словно ввинчивали мою жизнь в то вожделение, от которого я уже никогда не смог освободиться.
И вода, сбегавшая по стеклам кафе, отдаляла мое наслаждение, ибо я желал Соланж, как тогда, в гараже. Мы двинулись к дому: улица Д'Асса, улица Вожирар, улица Кассетт, быстрый переход по улице Мезьер, по площади и улице Сен-Сюльпис и Одеон, потом направо по улице Месье-ле-Пренс и вверх по улице Расина, пересекая бульвар по улице Эколь, а улицу Сен-Жак по улице Тенар, вверх до улицы Данте и Сен-Жюльен-ле-Повр, по мосту Арквеше и мосту Сен-Луи, когда нас опять прихватил дождь, как раз в тот момент, когда начали проглядывать звезды. В этот вечер звезд было мало.
А в тот далекий день я вышел из гаража ошеломленный и опустошенный. Аннетта молча стояла, прислонившись к стене, и спокойно, слишком спокойно застегивала пуговицы на груди. Потом, передумав, опять начала расстегивать, словно дразня меня. А в следующий миг она уже нырнула в низкую калитку, и, как всегда, исчезла на той стороне улицы.
Другой улицы, не той, что примыкает к Латинскому кварталу и подчас напоминает освещенную набережную, на которую накатывают людские волны. Я часто наблюдал за этими потоками из своих окон, и в голове начинали звучать упражнения Клементи или этюды Карла Черни, а то и Прелюдии Баха — словом, музыка, где все дело в повторах, в кружении вокруг и около, как в периодах чисел, когда на пятом или шестом десятке все возвращается снова. Там нет решительных кадансов, а лишь сплошные симметричные повторы, как движения таза моей Аннетты, когда ее тело каждый раз ожидало нового наслаждения. А я, похолодевший и испуганный, не мог дождаться, когда все это кончится, чтобы потом, раз за разом, снова все пережить, прячась в темноте моей комнаты или делая вид, что сижу над партитурой.
То же я почувствовал и с Соланж, когда она, едва пробудившись от короткого часового сна, спросила меня, о чем я думаю, так пристально вглядываясь в старинную рукопись. Аннетта в тот далекий день не спрашивала меня, отчего я потом весь день играл до одури, одолев подряд все девяносто упражнений «Шага на Парнас», что было задачей практически непосильной, словно желая избыть в звуках фортепиано все пережитое накануне. Мне было тогда пятнадцать, и Аннетта перевернула мою жизнь. Теперь каждый раз, прикасаясь к инструменту, я понимал, что для меня единственный способ не сойти с ума — это перелить в звуки фортепиано весь избыток своей пробудившейся чувственности, словно следуя закону сообщающихся сосудов. Слава Богу, я сохранил еще остатки разума, чтобы сознавать дистанцию и не пользоваться в этой ситуации понятием «любовь» — любовь к музыке, к фортепиано. Страсть. И каллиграфия страсти. Я сказал это Соланж, не помню где: в кафе, в пути или дома, и если честно, не помню кому сказал: Соланж или Аннетте, маленькой женщине в тринадцать лет. Какая разница? Кто знает, может, и Фридерику Шопену секс открылся так же. Есть особая прелесть в том, чтобы быть соблазненным ровесником, который не говорит ни слова, только глядит на тебя и знает все. Аннетта приходила много раз, и мне никак не удавалось понять, насколько я ей нужен. А я сходил с ума, пока не удостоверился, что был для нее лишь игрушкой: однажды я увидел ее за изгородью заброшенной мызы со взрослым мужчиной: она об нимала ногами его бедра, а он поднимал ее с земли ладонями за попку. И за миг до того, как укусить его за ухо, чтобы не закричать, она встретилась со мной глазами, и во взгляде ее была ярость. Больше она не вернулась, не перелезла ко мне через забор. Потом старый забор сломали и поставили новый, железный, и я помню, что поклялся тогда не задавать женщинам лишних вопросов.
Читать дальше