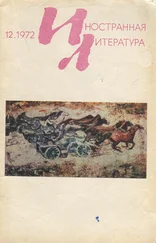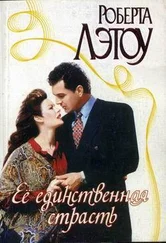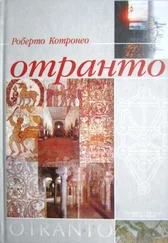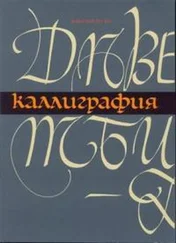Разрубить этот узел страстей не смогла ни смерть дяди Артура, ни скоропостижная, через месяц, смерть моей матери. Несмотря на все усилия бабушки, колдовавшей над ним как доктор, отец остался неутешен, прожив жизнь нелюбимым. Вся эта трагедия разворачивалась медленно, как Фантазия-Экспромт под моими пальцами или как алтарная живопись, когда смотришь вблизи и можешь увидеть только детали, не имея возможности охватить взором целое. Мать, иссушенная и раздавленная драмой, в которой сама играла главную роль; отец, до времени постаревший и вечно прячущийся в своей студии. И я, живущий в собственном замкнутом мире и приговоренный к многочасовым занятиям, потому что дядя Артур был концертирующий пианист и первый учитель музыки моей матери. И когда он умер, мать пожелала, чтобы я играл на его похоронах ми-минорную и си-минорную Прелюдии, те самые, что исполнялись на похоронах Шопена в церкви святой Магдалины.
Должно быть, Соланж сидела в одном из первых рядов. Было одиннадцать утра 30 октября 1849 года. В церкви, задрапированной черным, народу толпилось около трех тысяч. Хор и оркестр Консерваторского концертного общества исполнял Реквием Моцарта. Потом органист церкви святой Магдалины Лефебюр-Вели сыграл транскрипции двух Прелюдий Шопена и импровизировал на тему одной из Прелюдий, но нигде не указано, какой. Мне хотелось, чтобы это была фа-диез-минорная Прелюдия. Тогда я тоже так решил, играя фа-диез-минорную на похоронах дяди Артура сверх программы. Сидя за органом, я хорошо видел мать, уничтоженную горем: в ее глазах был блеск, которого я раньше не замечал. И даже сейчас я не смог бы определить выражение отцовского лица, серого, словно нарисованного углем и подтененного. Мне было семнадцать лет. В день похорон Шопена Соланж был двадцать один. Она проживет еще пятьдесят. Она бросит своего Клезенже и поведет, как пишут биографы, жизнь весьма рассеянную. Она и в самом деле пустилась в разгул, лишенный всякой узды, жертва собственных страстей и чувственности. Что думала она тогда, когда траурные ленты, поддерживаемые Франкомом, Делакруа и Александром и Адамом Чарторыйскими, поплыли вслед за катафалком с телом Шопена к кладбищу Пер-Лашез? Что испытывала, слушая Реквием Моцарта в исполнении Полины Виардо-Гарсиа, Лаблаша, Жанны Кастелан и Александра Дюпона? Вспомнила ли Четвертую Балладу, записанную для нее одной? А дядя Артур, играл ли он хоть раз для моей матери? А Аннетта, слышала ли она мою игру с тропинки за стеной сада, проходившей как раз под моим окном? Каково теперь думать, что я играл тогда только для нее одной, а она ни разу даже не услышала. И кто знает, известно ли ей, что я стал знаменитым пианистом.
Соланж слышала все мои записи. Она не любила Шопена, считая его композитором «бесполезно романтическим». Не берусь комментировать мнения и суждения, которые не имеют оснований, формируются черт знает из каких посылок, и никому не придет в голову их откорректировать. Зато меня тронули последующие изыскания Соланж, касающиеся меня, которые я не мог предвидеть и на которые не смел и надеяться. Она отмечала все следы, оставленные мною, пока я колесил по свету, все, что уже отделилось, стало «не-мною», и на что моя власть уже не распространялась. Ума не приложу, как ей удалось раздобыть старые видеопленки, где я играю Дебюсси, Шопена и Бетховена, но, по ее словам, она видела их все. Ее поразила одна Мазурка Шопена, ор. 68 № 4. Ей было невдомек, что это его последнее сочинение, продиктованное фактически со смертного одра. А я вдруг поймал себя на том, что раньше не обращал внимания на тональность: фа-минор, как и в Четвертой Балладе.
Я смутился при упоминании об этой Мазурке: она всегда нагоняла на меня страх. Я не был готов к ее глубокой простоте, мглистой размытости красок, словно для того, чтобы ее сыграть, нужно было еще повзрослеть. Как близко время написания Мазурки и Баллады и как велико их различие! Теперь я догадывался, о чем говорил Джеймс. Как полна кода Баллады страсти, гнева, обреченности, какое отчаяние чувства бьется в ней! А Мазурка вся — Джеймс, с его меланхолией, с наслаждением от оплакивания непрожитого мига, с несовпадением чувств. И внезапно я понял, что Соланж, моя Соланж, юная и прелестная, должна по-своему воспринимать мое тощее, совсем уже старческое тело, а я и не заметил, когда оно состарилось. Вот она сидит у окна, нога на ногу, прислонившись головой к стене, и поднявшийся с вечера ветер шевелит ее светлые волосы. Она в том возрасте, когда еще можно чередовать меланхолию и страсть. Они, как две волны, набегая друг на друга, разбиваются и смешивают свои рисунки.
Читать дальше