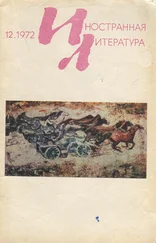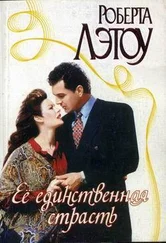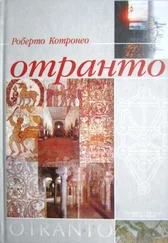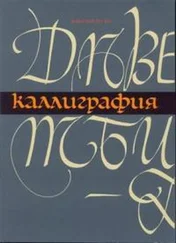Что же я такого сделал? Просто сыграл Брамса? А может быть, в звуках этой музыки мои слушатели сумели уловить присутствие иного, незнакомого им мира? Кто знает… Светало, холод усиливался, зима была на пороге, и все чувствовали приближение близкой развязки. 14 октября Республика Оссола прекратила свое существование, я вместе с другими тремястами бойцами отряда Суперти ушел в долину Диведро. Там мы перешли границу, и я снова оказался в Швейцарии. Только через несколько месяцев, в июне 1945 года, я вернулся в Милан. А в тот вечер все поняли, что ничего не будет по-прежнему в ближайшем будущем, когда мы переоденемся, наконец, в штатское. Для меня же, напротив, после выхода в мир параллельный мир реальный не изменится, все вернется на свои места. Жизнь моя снова потечет либо на вилле в окружении Стейнвеев, либо на вечной полдороге между Нью-Йорком, Лондоном и Парижем. А товарищи мои все займутся кто чем: кто журналистикой, кто политикой, а кто с удовольствием продолжит жизнь уважаемого бюргера. Что же высвободила музыка той ночью? Она должна была показаться чужой, трудной для восприятия, но дело, видимо, не только в этом. Было что-то еще, разделявшее нас. Я оставил отворенной дверь в свой талант, в свою душу, и сделал это с верой в хорошее. Приподнялась стена, за которой я прожил всю жизнь.
Отец, прячась тогда за дверью, наверное, испытывал ту же оторопь от моей игры. Спокойно ее слушала только мать, потому что в моих победах ей виделось поражение дяди Артура, талантливого виртуоза, но пропащего человека. Я быстро обогнал его, и уже в десять лет играл лучше. И для матери это было местью за то, что ее неоднократно отвергали, и отвергали с болью и гневом, что само по себе говорило о сложности их отношений. Они переписывались, связку писем я нашел в потайном ящике комода в шкатулке с драгоценностями, которые, наверное, подарил он. Я хотел было прочесть их, но одна из моих особенно ревнивых тетушек их сожгла. Сгорая в камине, они распространяли запах жасмина. А я, глядя на огонь и горящие листки бумаги, даже не догадывался, что подобная же сцена разворачивалась много лет тому назад после смерти Шопена.
В 1851 году Александр Дюма-сын обнаруживает в Мысловице, в Силезии, письма Жорж Санд к Шопену. Дюма увлечен, он понимает, что нашел нечто ценное. Как письма попали в Силезию? Жорж Санд вручила их Людвике, сестре Шопена, чтобы та вывезла их из Парижа. Людвика увезла их в Польшу и передала друзьям. Почему? Совершенно непонятно. Если Санд хочет освободиться от какой-то неприятной информации, содержащейся в письмах, то почему отдает их сестре Шопена? Ведь это не были письма Фридерика, это были ее письма. Может быть, они содержали что-то такое, что могло бросить тень на Шопена? В этом случае любящая сестра была наилучшим гарантом тактичности. Но Людвика не держит письма при себе, а передает их мысловицким друзьям. Зачем? Еще одна загадка. Приехав, Дюма-сын, не ожидавший такой находки, приходит в восторг. Он читает письма и, полагая, что делает доброе дело, ставит об этом в известность Санд. В конце концов, письма возвращаются в Париж. 7 октября 1851 года Жорж Санд пишет Дюма несколько холодных строк: «Так как Вы имели терпение прочесть это малозначащее, из-за многочисленных повторений, собрание, которое я только что перечитала и которое, как мне кажется, может быть интересно лишь моему сердцу, Вы теперь знаете, какой материнской нежностью были наполнены девять лет моей жизни. Конечно, в этом нет никакого секрета, и я могла бы скорее гордиться, чем краснеть из-за того, что я, словно своего собственного ребенка, утешала это благородное и больное существо».
Там действительно не было тайн? Трудно утверждать. Ведь Санд оставила нам девять толстых томов переписки, почти все письма, что она написала в своей жизни, тысячи страниц. Но свои письма к Шопену она сожгла. Точно так же, как моя тетка сожгла когда-то письма матери к дяде Артуру. Не берусь сказать, источали ли письма Санд запах жасмина, но в моем представлении оба эти эпизода всегда тесно связаны. До такой степени, что теперь я запутался, бумага чьих писем благоухала жасмином — матери или Жорж Санд. Все так сплавилось одно с другим, что обретение Баллады и встреча с моей Соланж, двойником Соланж Дюдеван, потрясли меня и перевернули мою жизнь. Я действительно был близок к помешательству.
Понимала ли все это моя Соланж? Сознавала ли, что ее легкие волосы, взлетавшие на ветру, были частичкой той мозаики чувства, рисунок которой я знал наизусть? И ко мне снова возвращались ощущения того далекого дня в горах: озноб от предутреннего холода, внезапная тишина за спиной, когда и Маурицио, и Джонни, и Альберто — ребята, называвшие себя этими именами, — поняли, что совместный путь на этом кончился, и наши судьбы повернулись в разные стороны. Они смотрели на меня с уважением и робостью, хвалили неуклюже, боясь сказать невпопад. Один лишь Джонни спросил, что это была за музыка, а я почему-то не решился назвать имя композитора. А потом все снова хохотали и пили красное вино, и одна из девушек, разгоряченная, подошла ко мне и, словно желая стряхнуть с себя неловкость, хлопнула меня по колену и сказала: «Молодец!»
Читать дальше