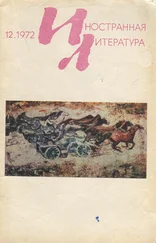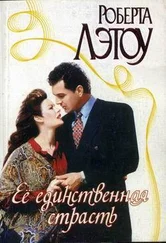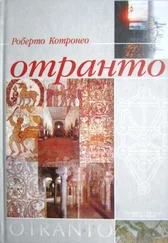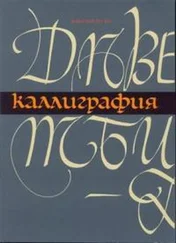А свою Соланж он повез в экипаже полюбоваться тем, что он сам в первую очередь никогда не сможет одолеть. Эту великолепную скалу сам Иммануил Кант определил бы как sublime (превосходство) и присовокупил бы: dinamico (динамическое). Именно так: sublime dinamico. Пейзаж грандиозный и неприступный. Немой. Доверенный одной лишь бумаге. Каллиграфия страсти, в которую лишь на короткие мгновения вторглись трое из грядущего века. Три разных судьбы, ничем не связанных, кроме того, что ни один из нас не смог бы сыграть эту музыку на публике. Франц Верт, Андрей Харитонович и я с первой же ноты знали, что эти страницы останутся скрытыми в наших инструментах, в нашей памяти. Никто не рискнет их опубликовать, и следующие поколения пианистов будут играть привычную версию Баллады. И будет считаться, что это и есть единственная версия самого, может быть, необычного фортепианного сочинения.
Рукопись, что держу я сейчас в руках, обратилась в открытый счет между мною, с одной стороны, и другими персонажами этой истории — Шопеном, Соланж Дюдеван, моими родными, Аннеттой, призраками Верта и Харитоновича, Евгением и, наконец, Джеймсом или Аррау — с другой. Не говоря уже о Соланж, моей Соланж. Занятно, что я все время пишу «моя», чтобы обозначить ее и отделить от другой Соланж, хотя из всех женщин она менее всего была моей. Какую же связь удалось мне сотворить между тем временем, которое я наивно полагал забытым, и историей, начавшейся в Париже появлением Евгения?
Я не возвращался больше памятью к тому дню, когда я играм партизанам Брамса. Когда война закончилась, многие из моих товарищей не пожелали расставаться с оружием и, возможно, не догадывались, что найдут они дома, вернувшись. А куда же двинуться мне? В Милан? Остаться в Швейцарии? И как повернется моя жизнь? Впервые я ощутил себя одиноким и абсолютно ничем не связанным. Вернувшись в Милан, я узнал, что за несколько дней до освобождения на своей вилле на озере Комо умерла моя бабушка. Теперь я сделался еще богаче и, входя в наш миланский дом, который никто из нас не любил, испытал чувство, похожее на счастье. Через несколько дней я перевез из загородного дома фортепиано и начал заниматься. Через год или чуть больше я впервые записал Четвертую Балладу.
Война похоронила под собой прожитые 25 лет, и я воспринимал их как сон, от которого изредка пробуждался и в котором искал прибежища. Долгое время я не думал об этой старой истории, о семейной драме, похожей на многие семейные драмы, о которых не принято рассказывать. Нынче мне стало ясно, что в истории этой есть пробелы, восполнить которые предопределено моему фортепиано, ибо фортепиано в нашей семье было не просто инструментом, оно стало двигателем чувств. На нем играли мать, дядя Артур и я. Отец играть не умел, и в этом заключалась его трагедия. Его жизнь, прожитая устало и бесплодно, даже в смерти не получила завершения. Теперь я стал понимать, что любовь Шопена к Соланж, матери к дяде Артуру, моя к Соланж из кафе на улице Ренн и, как знать, может, и любовь матери ко мне — это все одно и то же чувство. Не говоря уже о чувстве Андрея Харитоновича к Евгению и старого профессора к Андрею, чувства, обратившегося жестокой местью и швырнувшего Андрея в лагерь. Все эти душевные порывы обрели смысл, только будучи соединены вместе в затейливом переплетении. Я понял это в то утро, когда Соланж уходила от меня. Расставание наше мало походило на то, первое, легкое и случайное. Теперь она должна была непременно вернуться. Я положил рукопись в ящик стола и увидел, что туда же засунул когда-то конверт со старыми фотографиями. Много лет я не открывал его. Вот мой детский снимок с отцом и матерью. Отец положил нам руки на плечи, но робко, еле-еле, словно не смел к нам прикоснуться. Вот я за фортепиано, а мать позади меня за стулом. Здесь уже она опирается на мое плечо, но в ее руке чувствуется сила и властность. А глаза неподвижно и пристально смотрят в объектив.
На обороте фотографии читаю: «Артуру, 6 января 1933». Значит, за фотографом стоял дядя Артур: таким взглядом мать смотрела только на него. Повинуясь внезапному желанию, я уложил снимки обратно в ящик, к рукописи Шопена. И все же в этом хитросплетении судеб, упорно наводящем на мысль, что аккорд Бога должен быть фа-минорным, чего-то недоставало. Недоставало Соланж, не моей, которая свою роль сыграла, а той, его Соланж. Я должен был разыскать ее, хотя и отдавал себе отчет в том, каким безумием будет пытаться найти сведения о женщине, умершей в 1899 году, о последних годах жизни которой ничего не известно. Но без этой последней ниточки я не мог собрать воедино всю историю.
Читать дальше