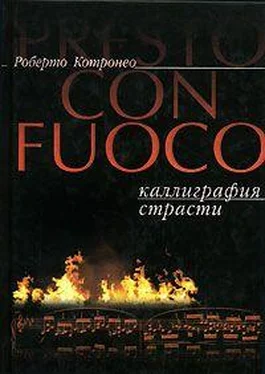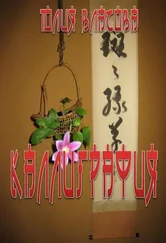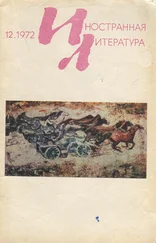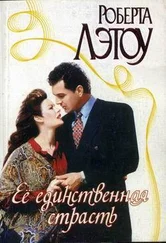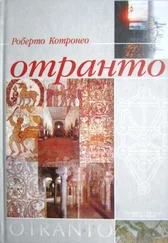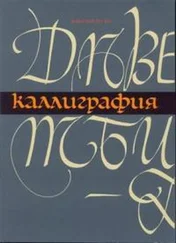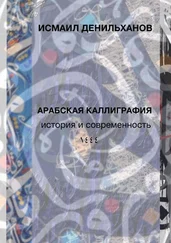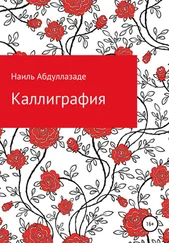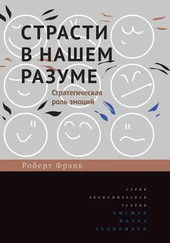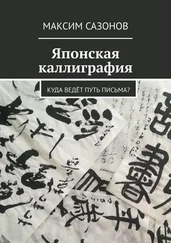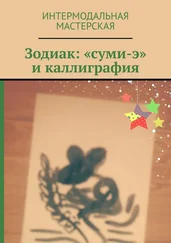Я пробую сыграть этот аккорд на фортепиано в центральной октаве: до, ми, соль-диез. Потом снова играю, облегчив прикосновение пальцев к клавишам: до и ми держу на месте, а пятым пальцем сначала играю соль-диез, а потом перехожу на соль-бекар. И вслушиваюсь в различие между увеличенным и натуральным до-мажором: всего полутон, небольшое смещение частот — и все меняется. Моя Вселенная то открывается, то закрывается, я перехожу от системы Птолемея к системе Коперника, от небес древних греков и римлян к моим небесам, от их мира, солнечного и цельного, к моему — зыбкому, беспокойному, собранному из цитат Спинозы и Ницше. Какая огромная сила таится в крошечном полутоне, в легком различии колебаний! На клавиатуре соль натуральное — клавиша белая, соль-диез — клавиша черная; они точно отражают контраст двух миров, проносящихся передо мной в эту минуту.
Человеческая мысль уже связывала музыкальные звуки и их свойства с планетами. Уже будучи взрослым, я прочел «De occulta philosophia» Корнелия Агриппы. Ее первое издание я нашел у одного из венских антикваров после войны, и меня поразили любопытные замечания о музыке:
«Сатурн имеет звуки хриплые и печальные, тяжелые и медленные, словно слепленные друг с другом. Марс имеет звуки грубые и резкие, грозные и решительные, будто отмеченные гневом. Луна имеет звуки средние между означенными планетами. Этим трем планетам свойственно более обладать голосами и звуками, нежели созвучиями. По созвучиям же, напротив, различают Юпитер, Солнце, Венеру и Меркурий. Юпитер имеет созвучия устойчивые и яркие, мягкие, веселые и приятные. Солнце имеет созвучия, исполненные достоинства, сильные и чистые, сладостные и изящные. Венера имеет созвучия мягкие, сладострастные, концентрически расходящиеся. Меркурий имеет созвучия многократные, веселые и приятные своею живостью».
Я всегда искал согласия между планетами и музыкой, между моей собственной Вселенной и Вселенной, лежащей вне меня. Драгоценную книгу Агриппы я открыл для себя поздно, когда многие метания юности считал уже преодоленными. Садясь за фортепиано, я всегда спрашивал себя, может ли великая музыка изменять порядок мироздания и формы, которые были приданы ему Мастером? Могу ли я влиять на шумы Вселенной? Что это за сладострастные созвучия? Вдруг мне удастся отыскать созвучия приятные и веселые? Ведь моцартовское соль-мажорное трезвучие определенно звучит с живостью, а доминантсепт-аккорд до-диез минора явно исполнен достоинства. В какой-то момент я испытал искушение отложить Агриппу и пойти дальше, найти недостающие отношения и аналогии, перенести окружающий мир в самую суть музыки. Но вынужден был сдаться и оставить музыку вне мира и его аналогий. Как пишет Шопенгауэр, «музыка никогда не ассимилируется с материей». Планеты будут и дальше вращаться без моих аккордов, до-диез миноров и соль-мажоров, а точнее — вне музыки, которую я выбирал, чтобы получить свою модель мира.
В размышлениях об изначальных звуках, об аккордах с изменением полутона, крошечного интервала, оказавшегося способным вдохновить меня на весь этот теоретический бред, я не принимал в расчет ту музыку, которой Корнелий Агриппа не мог знать. Не мог о ней знать и автор купленной мной в Париже инкунабулы «De musica practica» 1482 года, Бартоломео Рамис де Парейя. Я жил внутри романтической музыки, я ее любил, и она мне удавалась. Она отличалась от музыки Рихарда Штрауса или Шенберга, которую я играл как дилетант от клавиатуры. В юности я считал себя неплохим исполнителем Равеля, но и его музыка вырывалась из моих пальцев, как часовая пружина, не желающая вставать на место, хотя ты знаешь, что она будет работать только тогда, когда ее кончики заправлены в нужные отверстия. Я так и не догадался, какой аккорд соответствует звучанию, Бога, зато понял, что гармония мира — лишь бледное подобие гармонии музыки. Клянусь, иногда по ночам я доходил до умопомрачения, изощряясь в исполнении одного созвучия из двух нот в сотнях вариантов. Партитура самого легкого из вальсов Шопена состоит не из одного, а из множества созвучий, складывающихся во всевозможные комбинации, как взгляды людей, попадающихся навстречу. В этих взглядах — неведомые тебе драмы и печали, нетерпение и счастье. Они то рассеянны, то полны ожидания. Часто кажется, что глаза живут не в согласии с телом: пристальные и задумчивые у людей худых, с резкими движениями, или живые и подвижные у грузных стариков.
Часто музыка либо соткана из подобных контрастов с их перебоями и яркими вспышками, либо всю жизнь звучит у тебя в голове одним единственным коротким пассажем. Так наши крестьяне, которых я помню с детства, насвистывали всю жизнь один и тот же мотив. Для них вся музыка была в этой короткой песенке, услышанной, может быть, от отцов или дедов. Они часто не знали даже ее названия, оно ушло из памяти. Я слышал, как наши крестьяне насвистывают, возвращаясь с поля, вспотевшие и беспричинно довольные той адской жизнью, которую они вели и от которой их глаза превращались в прорубленные в лицах щели. И я понимал, что существует музыка моя, но существует и их музыка, простая и грубая, иногда просто фальшивая — единственная, которая у них есть. В Италии двадцатых годов, в городах, где не было автомобилей, и лишь велосипеды шуршали шинами по каменным мостовым, мужчины тоже насвистывали. Свист было хорошо слышно, и часто определенный мотив возвещал о возвращении хозяина домой. И я насвистывал, а в детстве еще и напевал, особенно когда играл на фортепиано какие-нибудь простые мелодии. Теперь я потерял эту привычку. Так же исчезла привычка просить приятеля-пианиста сыграть кусочек из какой-нибудь пьесы, несколько тактов, вызывающих определенное воспоминание или чувство. Раньше такое бывало часто, и никто этого не стыдился; чувствовалось, что музыка живет в руках музыкантов.
Читать дальше