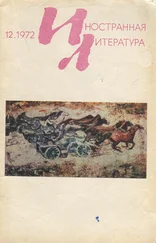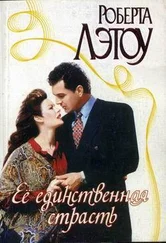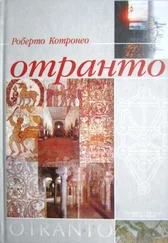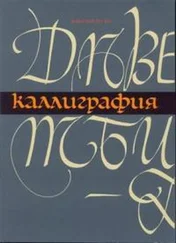Именно в те дни, когда лихорадка ожидания становилась невыносимой, я и наведывался в кафе на улице Ренн. Естественно, через короткое время я начал думать, что и здесь могла быть какая-то связь между Балладой ор. 52 № 4 фа-минор и женщиной, похожей на портрет кисти Делакруа, с которой я провел одну из первых ночей в Париже. Более того, я уже был уверен, что не отыщу заветной партитуры, не встретив еще раз эту женщину. И не потому, что полагал ее сообщницей русского или хотел каким-то образом связать ее с этой странной историей. Скорее, я был увлечен магической игрой чувств: мне хотелось, чтобы та каллиграфия страсти, которую я разыскивал, как-то соотносилась с моей собственной страстью, взволновавшей меня гораздо глубже, чем я предполагал. Я чувствовал, что эта женщина способна открыть дверь в неразгаданную тайну. Словом, я убедил себя, что «девушка в шляпе» непременно должна войти в мою жизнь, хотя бы просто как сюжет. Меня одинаково тянуло и к ней, и к таинственной рукописи, а выбирать я не желал. Контролировать обе страсти я был не в силах.
Вот так я и соединил каллиграфию страсти со страстью своей души и поселил их в мире из плоти, движений, взглядов и музыки прошлого века. Соединил не для того, чтобы оживить прах романтизма, а чтобы передать огонь своей страсти тому новому, что уже проросло в моей душе, что я отчетливо видел и понимал. Музыка, по Шопенгауэру, не нуждается в материи, но мне, чтобы извлечь музыку из деревянного ящика фортепиано и сыграть все ноты как положено, нужно уметь обращаться с материей, проклиная все эти молоточки с их хрипами, чувствуя, как пальцы покрываются потом в жаркие влажные дни, и понимая, что бессонные ночи не способствуют увеличению гибкости рук. Но и я — тоже материя, которая должна исчезнуть. Это я-то, всегда хотевший жить вечно в звуках своей музыки! Я начал понимать Гульда, напевавшего во время записей: на дисках часто можно услышать его голос, подпевающий Баху. Все принимали это за причуду, не догадываясь, что это был страх небытия, страх оставить после себя только звуки. Ведь ему было немногим более тридцати, когда он ушел со сцены и не давал больше концертов. Ему хотелось целиком посвятить себя записям и оставить потомкам лишь магнитофонные ленты со своей музыкой. Отчего же он, гораздо более требовательный, чем я, позволил опубликовать диски, где слышен его голос? Только ли из эксцентричности? Вряд ли. Скорее, это был способ напомнить слушателям, что он существовал, что эту музыку играл человек по имени Глен Гульд и что он не только портрет на обложке пластинки, он присутствует и внутри каждой записи. Там его руки, его усталые мышцы, там пот музыканта, силившегося поднять музыку над материей. И тот, кто слушает записи Гульда, знает о его постоянном внутреннем присутствии. Я тоже испытывал искушение записывать время от времени подавая голос. Но не отважился; я старый пианист, воспитанный в отношении к звуку как к священнодействию. Только иногда в моих записях слышно дыхание, особенно в пианиссимо, да и то лишь потому, что студии звукозаписи, как губки, впитывают мельчайшие звуки.
И в те дни, когда я безуспешно ходил в кафе на улицу Ренн и все еще искал девушку, которая ничего не могла знать ни о моих душевных метаниях, ни о нитях, которые я пытался соединить, я вдруг почувствовал, что разгадка тайны близка. Я понял, что время на моей стороне, и все окажется расставленным по своим местам, как в фуге из Хорошо Темперированного Клавира, где каждый голос совершенен, ноты следуют друг за другом, темы начинаются просто, чтобы потом многократно повториться, перекрещиваясь, и достигнуть тематического богатства, заставляющего и восхититься, и изумиться, а в финале все получает разрешение и воцаряется ощущение благости и покоя. Мне нравилось, что эта история разворачивалась, подобно фуге Баха, этот язык был мне понятен и не пугал меня. Но даже если бы это был не Бах, а другая, менее «геометрически определенная» музыкальная логика, я был бы счастлив. Соната Бетховена, например, или снова Шопен, одно из его виртуозных, непредсказуемых и эклектичных Скерцо — все дало бы мне ощущение уверенности, как альпинисту, который не боится трудной стенки, так как знает и ее секреты, и те места, где можно оступиться и сорваться.
Средствами какой партитуры можно было бы передать мою жизнь в те дни? Не годился ни Бах, ни Бетховен. Что же касается Шопена, который был мне ближе всех, то здесь нужны были страницы, которых я не знал. В один прекрасный день я обнаружил себя одиноко сидящим после обеда в кафе на улице Ренн и фантазирующим на тему Четвертой Баллады… Что, если события, участником которых я стал, есть не что иное, как контрапункт к этим страницам? И если бы я был Мастером звука, как Бог был Мастером рокота Вселенной, что нашел бы я в этой рукописи? Себя, свою жизнь и страсти, разрозненные куски музыки, отдельные голоса?… И мысль о том, что все случившееся со мной в этот период имело соответствие в фа-минорной музыке, которой я пока не знал, стала открытием, близким к разочарованию. Значит, мне теперь нечего размышлять ни о шуме Вселенной, ни о шопенгауэровских взаимосвязях материи и музыки, то есть представления и воли, ни о музыке у Корнелия Агриппы, искавшего в звуках соответствия порядку мироздания?.. Теперь я знал, что моя Четвертая Баллада с неизвестным вариантом финала ждет меня 150 дет. Она совершила длинный путь от рассеянных друзей Шопена через руки людей, которых я не знаю, в Берлин, где ее играли ничего не способные от нее получить музыканты, потом в Москву и, возможно, в сталинские лагеря; исполнялась пианистами столь же жалкими, сколь великими… И, наконец, вернувшись в Париж, дожидалась меня. Как дожидалась меня в кафе на улице Ренн прелестная девушка по имени Соланж, это живое Представление музыкальной Воли, которой я готов был отдать на хранение свое искусство виртуоза, а может быть и свою жизнь.
Читать дальше