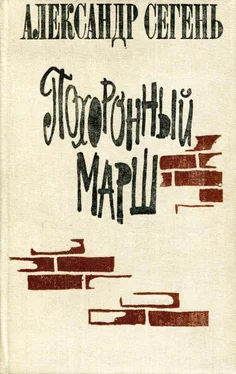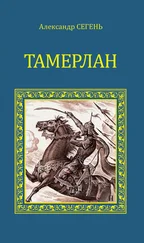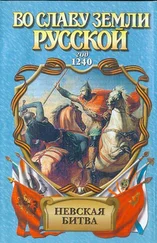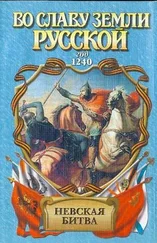Итак, произошел раздел мира, что же дальше? А дальше начались войны за передел. Самой воинственной державой оказалась Бразилия — воспользовавшись конфликтом между Индией и Пакистаном, она захватила обе территории, подло подкупив обоих владык жвачкой. Уловив восхитительные запахи «peppermint»’а исходящие из чавкающих ртов Индии и Пакистана, добровольно во власть жевательной монополии сдалась Япония. Границы катастрофически стирались. Летом Дранейчик уехал в пионерлагерь, а Бразилия с Саудовской Аравией захватили итальянскую территорию и ее вечную столицу — детский домик. Рим пал.
На лето разъехались кто куда Англия, Франция и Испания. Игра зачахла, едва появившись на свет божий. Но я не мог остановиться. Я купил контурных карт и сам творил неизвестные доселе страны, рисовал мои собственные границы, выдумывал города и реки, войны и народные бунты, немыслимые виды животных и птиц, воображал себе новые расы, людей с голубой, золотистой и серебряной кожей. Я сочинял новые языки, и у меня захватывало дух, когда я писал на каком-нибудь эллеозитанском или начвакийском, не зная, что названия Эллеозитания и Начвакия произошли в моем мозгу не сами по себе, а лишь путем скрещивания — Эллада + Луизиана + Мавритания = Эллеозитания. Начвакия же — обыкновенная производная от Нахичевани. Николай Расплетаев, который тогда крутил любовь с моей матерью, нашел мои записки и осмеял:
— Это чтой-то у тебя, Лешк, страны какие-то? Исвальдия? Это что за страна? А это? Капаросса какая-то. От медного купороса, что ли? Эх ты, Капаросса, я вот скажу мамке, чем ты вместо уроков балуешься.
С тех пор они стали еще слаще, потому что я прятал их в тайнике, в подкладке портфеля, и доставал лишь тогда, когда ни матери, ни Расплетаева не было дома. Я так увлекся выдуманным миром, что в один прекрасный день меня сразила наповал одна простая, но жуткая мысль. Я сидел на уроке рисования и вдруг понял, что на свете нет ни Америки, ни Африки, ни Индии, даже Европы, может быть, нет, а все это выдумано, чтобы интереснее было жить нам здесь, в Москве и окрестностях. Это так потрясло мое сознание, что я даже злорадно рассмеялся, глядя на своих одноклассников — простачков, которых всю жизнь будут обманывать, строить вокруг их воображения шутовские, дутые государства, моря и горы. Чего доброго, и я ни с того ни с сего стану преподавать в школе эллеозитанский язык и внушу всем, что есть неподалеку от Англии Эллеозитания, которая страшно влияет на политику европейских стран. И мне поверят, станут снимать и показывать эллеозитанские фильмы о короле Мулькиаре и его жене, красавице Ксиолетте, Ляля начнет приносить неизвестно откуда жвачку, на которой будет значиться: «Made in Elleozithania» или «Made in Caparossa», а если я только заикнусь, что это я выдумал из собственной головы все эти замысловатые государства, мне скажут: «Ты что, дурак? Иди подлечись. Еще скажи, что ты сам выдумал Советский Союз и нас, всех вместе взятых». И все будут продолжать верить вранью, потому что так интереснее.
Первым человеком, которому я поведал о своем открытии, был Веселый Павлик. Я доверился ему уже на третий день нашей дружбы. Мы сидели вечером в его квартирке, Павлик пытался вырезать из бумаги мой профиль, а я вырезал разных пятируких птиц и двухголовых рыб. Когда на полу накопилось изрядное количество моих зверушек и чьих-то длинноносых, толстогубых, корявых и нахмуренных профилей, отдаленно напоминающих меня или моего брата Юру, Павлик покрутил ножницы на пальце и положил их на стол, откуда они не замедлили свалиться на пол. Звук упавших ножниц разбудил попугая, и он воскликнул:
— Акрра! Крра-ка!
Тогда Веселый Павлик стряхнул с себя вечернюю полудрему, развеселился и совершил удалое турне по комнате — он подпрыгнул к потолку, пощекотал пол звонкой чечеткой, наподдал ногой дырявый резиновый мяч, спавший под стулом, схватил с полки книгу и, раскрыв наугад, громогласно продекламировал: «Настежь ворота тяжелые, ветром пахнуло в окно, песни такие веселые не раздавались давно…», мяч, отскочив от стенки, покатился на кухню, стрелки настенных часов под напором толстого Павликова пальца совершили пять полных оборотов, и вместо десяти вечера стало три часа ночи, хотя на самом деле еще и десяти не было; распахнулось пошире окно, и гулкий Павликов бас дыхнул в небо:
— Эй, господи!
Из груды каких-то репродукций, схем и устаревших пластинок выбралась гитара, шлепнулась на толстый живот своего владельца и запела необычайное попурри:
Читать дальше