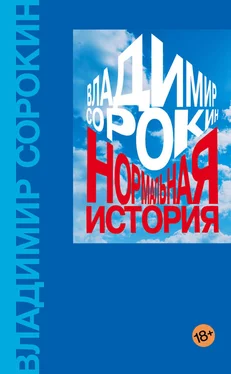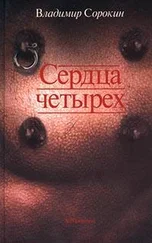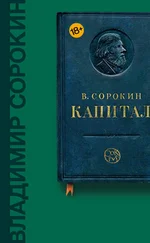Чтобы понять, что есть “Норма”, издательство послало копии книги трем славистам на отзывы. Одним из них оказался философ и культуролог Борис Гройс, уехавший из СССР в начале восьмидесятых, писавший статьи в журнал “А – Я” о художниках и поэтах круга московских концептуалистов. К тому времени он уже стал публиковаться и по-немецки. Ему книга понравилась, он написал для издательства положительный отзыв. Двое других славистов долго не могли идентифицировать “Норму” с чем-либо, затем написали свои рецензии, из которых главному редактору стало ясно, что книга будет тяжела для понимания немецкого читателя. Это понимал и я, поэтому не обиделся, тем более что к тому времени у меня вышла “Очередь” уже и по-французски, так что естественный зуд молодого литератора был удовлетворен.
“Норма” оказалась самой непереводимой моей книгой, до сих пор она публиковалась только по-немецки, в 1999 году, в отличном переводе Доротеи Троттенберг. И тем не менее главу “Стихи и песни” я убрал из немецкого варианта, так как перевести это адекватно было совсем невозможно. Сложность “Нормы” для западного читателя в том, что в ней советский контекст подан в чистом виде, что называется raw – без соуса, без гарнира, без каких-либо адаптационных рамок. Жевать эту норму – дело непростое и для русскоязычного читателя. Для западного же это равносильно попаданию в мозг к Homo soveticus , что не есть комфортное состояние.
Борис Гройс выпустил по-немецки свою знаменитую книгу Gesamtkunstwerk Stalin (“Стиль Сталин”) в 1988 году, где в главе “Жестокий талант” написал про “письма к Мартину Алексеевичу”. Это была первая рецензия на не напечатанную нигде “Норму”. Автор был доволен. В России же книга вышла только в 1994 году в издательстве Obscuri Viri.
И я жил не в последнем веке…
Д. А. Пригов
Пригов ушел. Сначала не верилось, не выстраивалась никак картина его ухода. Он никак не перемещался в прошлое, оставаясь слишком живым и актуальным, как всегда. Прошлое выталкивало его в сегодняшний день. Теперь с трудом, но верится. Уже верится. После некрологов и статей, прощальных фотографий в Сети, сорока дней, выпитой водки на Донском возле свежей могилы, после сумбурного вечера памяти в “Билингве”. Пригов ушел по-приговски внезапно, резко, трагично и радикально, оставив нам в наследство свою удивительную, неповторимую вселенную, сотворенную им, Приговым-демиургом. Но не только ее. Оставил и себя. В памяти: в словах, в жестах, в чисто приговском обаянии и юморе, в фигурах и оборотах речи, в сентенциях и максимах, в неизменной невозмутимости, в беспощадной провокативности, в наглости и застенчивости, в ярости и деликатности, в русской скоморошьей брутальности, в анархизме, в немецкой обстоятельности, в академической основательности и рассудительности.
За свою жизнь он очень многое успел. Родился в Москве, за год до войны, в семье советского инженера и советской пианистки, рос в коммунальной квартире, гонялся за крысами, болел полиомиелитом, учился в сталинской школе, читал и рисовал, работал фрезеровщиком, стоял на воротах в заводской футбольной команде, учился в Строгановке, стал скульптором, занимался академическим рисунком, писал стихи, рассказы, пьесы, эссе и романы, был звездой литературного андерграунда, делал перформансы, лепил скульптуры, снимался в кино.
Чего же он не успел? Наверно, получить полноценное признание на родине, своих живых поэтов традиционно не жалующей. Зато был оценен и уважаем в Европе, вхож в культурно-элитарные круги. О нем там пишут диссертации, его знают как основателя московского концептуализма, как поэта, как художника-акциониста и просто как умного человека. Он действительно был очень умный, что для русского поэта как-то даже и неуместно. Говорить с ним было всегда дико интересно: этот человек никогда не повторялся, мысль его не скользила по кругу, не пробуксовывала. Мысль была остра. Он ужасно старался делать открытия – и на бумаге, и в себе. Гносеологическая жажда Дмитрия Александровича Пригова была неутолимой. Внутренне и внешне он никогда не останавливался, не замедлялся с возрастом, как часто происходит у многих творцов. Его интересовал мир целиком, лежащий на ладони и дивному яблоку подобный, мир без изъянов, без оговорок и снобистского деления на высокое и низкое, грязное и чистое. Его интенсивные глаза были открыты на все. В один и тот же вечер с ним можно было поговорить о Делезе, о фильме “Чужой”, о Сталине, о талибах, о Маше Распутиной, о Достоевском, о пинг-понге и о панк-группе “Автоматические удовлетворители”.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу