Когда Стейнз вернулся — с пустыми руками, — я попросил его рассказать о Санди Лабуше и Отто Хендерсоне.
— Где-то есть их фотография, — сказал он. — По правде говоря, мы редко общались… видите ли, на самом-то деле я слишком молод и потому вряд ли смогу быть вам полезен… Когда я с ними познакомился, эта парочка представляла собой отвратительное зрелище: Лабуше был беспробудным пьяницей, как, впрочем, и Хендерсон. Они почти все время держались вместе и писали в высшей степени странные картины, патологически мрачные, изобиловавшие растленными молодыми людьми вдвое больше натуральной величины — причем во всех отношениях. По существу, Отто был, конечно, карикатуристом, хотя иногда ему удавалось получить работу в театре. Однажды в опере я видел, как он оформил некий странный спектакль с чрезвычайно пошлыми кариатидами и тому подобными излишествами, а также с множеством рабов. На сцене стояла чрезвычайно неудобная с виду мебель. Помню, один критик написал: «Ответственность за это misere-en-scene [124] убожество на сцене (фр.).
несет мистер Отто Хендерсон».
— Что же с ним сталось?
— А знаете, вполне возможно, что он еще жив. Я уже целую вечность ничего о нем не слышал. В последний раз до меня дошли слухи, что он живет в подвале, где-то в Эрлз-Корт [125] Район в западной части Лондона.
, с какими-то сектантами. Когда его друг наконец спился и умер, бедный старый Отто и вправду стал немного чудаковатым. Кстати, у меня есть одна картина Лабуше — если хотите, можно взглянуть. Работа довольно специфическая, поэтому я убрал ее подальше.
— Было бы интересно.
— Она и вправду довольно забавная. — Стейнз загорелся этой идеей. — Может, вы… э-э… Фил, поможете мне найти картину, а Уильям пусть продолжает разбирать фотографии.
Я отпустил их и вскоре наткнулся на фотографию Чарльза, причем как раз подходящую для моей будущей книги. В возрасте, наверно, лет пятидесяти, чуть раздобревший, но красивый, он сидел на стуле с высокой спинкой перед большим, увенчанным неким подобием фронтона, книжным шкафом в библиотеке на Скиннерз-лейн. Рядом, наклонившись над стулом и протягивая бокал на маленьком подносе, стоял чернокожий в белом пиджаке. По идее слуга должен был смотреть на своего хозяина, но фотограф застиг его в тот момент, когда он, проследив за взглядом Чарльза, с нежной, застенчивой улыбкой уставился в объектив.
Я отобрал и многие другие снимки — фотографии людей, достаточно привлекательных или странных, чтобы спросить, кто они такие, людей, занимавших, как я надеялся, определенное место в потрескавшейся мозаике Чарльзовой жизни. В одном из ящиков я с удивлением обнаружил жесткий кремовый конверт с тисненой надписью «Стейнз, фотограф. Нью-Бонд-стрит». В нем лежал комплект загадочных, довольно красивых эротических снимков: некий худощавый обнаженный юноша то стоял отвернувшись, то скрывался в полосках тени от жалюзи, то сидел, боязливо съежившись, на дощатом полу студии. Лица его нигде не было видно полностью, да и сама личность натурщика растворялась в мрачной, наводящей уныние композиции каждого снимка. И все же я узнал его — по характерной изогнутости большого мужского органа. Это был Колин, Джеймсов приятель из «Корри», которого я поимел у себя дома в тот жаркий день, несколько недель назад.
Я уже начал было приходить в возбуждение, как вдруг почувствовал, что в комнате кто-то есть. Возле застекленных дверей, устремив на меня ничего не выражающий взгляд, стоял Бобби. Я принялся наводить порядок, складывая в стопку нужные мне фотографии.
— Ронни тут нет? — спросил Бобби. Судя по голосу, он был уже слегка навеселе.
— Нет, он пошел искать одну вещь.
Бобби растянул губы, изобразив усталую улыбку.
— На вашем месте я бы пошел со мной.
Я принял это за наглое гнусное предложение, но когда Бобби, пройдя через всю комнату, остановился у двери, оглянулся и сказал: «Ну, идемте же», — понял, что ошибся и что со мной сыграли какую-то шутку.
Пройдя по коридору, мы вошли в студию. Бобби на мгновение замер, помешав мне что-либо увидеть, а потом и я получил возможность полюбоваться происходящим. Стейнз, склонившийся над штативом и приникший правым глазом к видоискателю, почувствовал наше присутствие и помахал левой рукой у себя за спиной, дав нам знак не подходить и придерживаться профессиональной этики, пока он сосредоточивается.
— Постарайся не улыбаться, — сказал он.
Фил, стоявший прислонясь к высокому белому постаменту, без рубашки, с расстегнутой верхней пуговицей моих брюк, намазанный маслом так, что кожа чуть ли не сверкала при свете студийных ламп, внезапно смутился, почувствовав себя виноватым. Та густая, яркая краска стыда, которую я так любил, бросилась ему в лицо, разлилась по лбу, вискам и затылку, по крепкой, как ствол дерева, шее и поблекла на лоснящейся груди.
Читать дальше
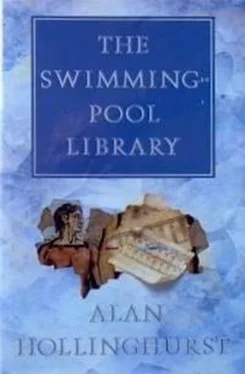
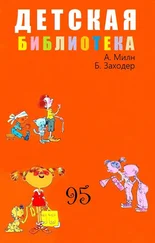


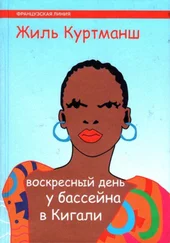
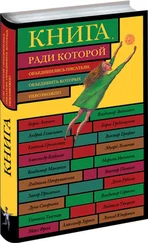


![Кэролайн Кин - Расследование на вечеринке у бассейна [litres]](/books/432608/kerolajn-kin-rassledovanie-na-vecherinke-u-bassejna-thumb.webp)
![Агата Кристи - Лощина [= Долина; = Смерть у бассейна] [litres]](/books/436356/agata-kristi-lochina-dolina-smert-u-bassejna-thumb.webp)


