Джеймс, не выносивший подобных шуток, тем не менее ухитрился выдавить кислую улыбку. Как-то раз, когда он питался исключительно жареной картошкой и сыром стилтон, ему пришлось встречать Новый Год в «Мардене» и притворяться безразличным при виде прислуги, вносившей в комнату огромные порции дичи, гусятины и почти сырой говядины.
Наверху дед вспомнил, как зовут капельдинера, который шел рядом с нами по коридору, и в самую последнюю минуту успел спросить:
— А как поживает ваша жена, Рой?
(Рой — это была фамилия, а не имя.)
— К сожалению, она умерла, милорд, — ответил Рой со сдержанной иронией в голосе.
Для деда это оказалось серьезным испытанием: проявив заботу просто из вежливости, он, сам того не желая, узнал о настоящей маленькой трагедии. Я стоял и смотрел, как он по-братски похлопывает собеседника по спине и выразительно кивает.
— Довольно тяжело переносить такие утраты, — сказал он. — И со временем, к сожалению, легче не становится.
Когда Рой сказал: «Да, милорд», — дед уже отошел от него, успев убедить присутствующих в своем человеколюбии, но оставшись при этом совершенно равнодушным. Он открыл дверь и, усадив нас — Джеймса поближе к сцене, — занял место посередине.
Дед был директором «Ковент-Гардена», и я много раз слушал оперу, сидя с ним именно в этой ложе. Однако я всегда считал, что оттуда неудобно смотреть спектакль: за уединение и высокое расположение ложи мы расплачивались видом за кулисы, на оркестр и невзрачную верхнюю часть сцены. Уединение, впрочем, было отнюдь не полным, ибо взоры партера то и дело задерживались на ложах, точно на балконах королевской резиденции. Я сознавал, что на меня это действует скверно, вызывая показное невнимание к публике, неестественно громкий смех и чрезмерный интерес к словам собеседников. За это я себя недолюбливал — в некоторых отношениях ложа и вправду символизировала для меня вредное воздействие, дискомфорт и безжалостность, то есть расплату за привилегии. На сей раз я сел, облокотившись на красный плюшевый поручень, а Джеймс с дедом болтали, пока в зале не погас свет.
Давали «Билли Бадда», оперу, запомнившуюся мне слабой, почти любительской постановкой, и я был уверен, что она не доставит мне ни малейшего удовольствия. И все же, когда закончился монолог капитана Вира и началась сцена на борту «Неустрашимого», в которой матросы, драившие палубу, хором затянули свою печальную песню, у меня по коже мурашки забегали. А когда Билли, насильно завербованный на другой корабль, запел, прощаясь с бывшими товарищами и прежней жизнью, слезы ручьями потекли у меня по щекам. Молодой баритон, обладавший прекрасным, ярким голосом, придал образу Билли необычайно страстную силу. Слушая раскатистую музыку и вглядываясь в его лицо, красивое и открытое, хотя и на удивление дряблое в области рта, я верил, что он переживает личную трагедию.
Впрочем, во всем этом не было ничего удивительного. Уже несколько дней я не слушал музыку и всё это время испытывал сильное возбуждение и пылкий восторг, и потому все мои чувства были обострены. Каждую музыкальную фразу я ощущал физически — так, словно и сам превратился в маленький оркестр.
В антракте мы выпили шампанского, хотя Джеймс едва пригубил, сказав, что иначе у него разболится голова. Он вечно страдал сильными головными болями, зачастую — нервного характера (например, когда после двух-трехнедельной беготни по вызовам у него выдавалась пара свободных дней, он обычно проводил их лежа навзничь и прижав руку ко лбу). Да и в театре голова у него неизменно побаливала — от жары и напряженной обстановки. По-моему, Джеймс все время был донельзя сосредоточен — если на концерте он не следил за партитурой, от напряжения у него белели костяшки пальцев, — тогда как я — несмотря на то, что опера захватила меня и потрясла, а отчаяние бедного малыша Новиса, чьи тело и дух были сломлены поркой, заставило вновь разреветься, — порой на несколько минут отвлекался от происходящего на сцене и задумывался о Филе, о сексе и о своих дальнейших планах.
Дед обеспокоенно посмотрел на меня:
— Нравится опера, милый?
— По-моему, она изумительна, — сказал я. — Постановка старая и довольно забавная, но в ней есть нечто очень трогательное.
— Гм… согласен. Конечно, за тридцать лет, прошедших после премьеры, ничего не изменилось. Это уже музейная редкость. Мы долго обсуждали возможность новой постановки, но решили, что этим деньгам можно найти лучшее применение.
Читать дальше
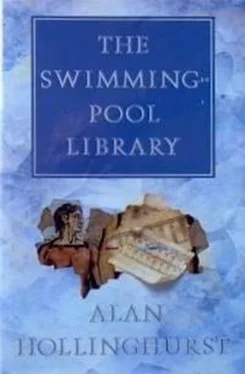
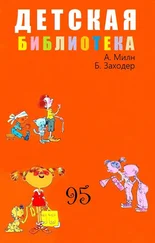


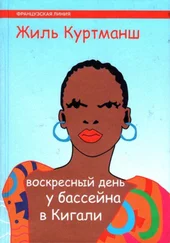
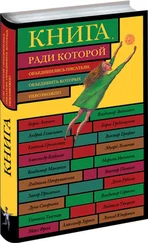


![Кэролайн Кин - Расследование на вечеринке у бассейна [litres]](/books/432608/kerolajn-kin-rassledovanie-na-vecherinke-u-bassejna-thumb.webp)
![Агата Кристи - Лощина [= Долина; = Смерть у бассейна] [litres]](/books/436356/agata-kristi-lochina-dolina-smert-u-bassejna-thumb.webp)


