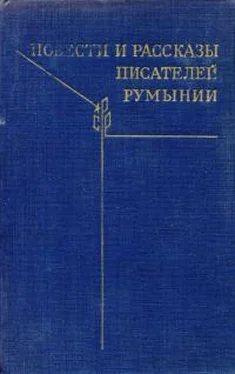— Не поеду я больше в М., — произнес я в темноте.
И тут же почувствовал, как венок из засохших цветов больно кольнул мне лицо…
— Когда-нибудь тебе придется остаться. — Мы всегда обходили эту тему молчанием. В темноте я услышал шорох венка, сухие веточки впились мне в лоб.
— Мужчина всегда бежит, — прошептала она. — Ты из тех, кто болеет за команду противника.
— Мне надоело быть благоразумным, — бормотал я.
— Мужчина создан, чтобы убегать. Он всегда убегает…
Луна не появлялась. Она опаздывала, поэтому мы поднялись, разделись в дюнах и молча подошли к берегу. Я снял с ее головы венок полевых цветов, чтобы бросить в воду. Пока я стоял, закрыв глаза, с венком в руке, вода омывала мне ноги. Море было теплым. Я открыл глаза — кругом простиралось черное пространство, только слева ритмично мигал маяк, расположенный в М. «Судьба, — подумал я, — это сплошное отрицание, она упрямо твердит свое «нет» и «нет». Я вошел в теплую воду и поплыл; я плыл, пока прибрежная полоса не слилась с морем. Вдалеке тысячами огней искрился город. Мы лежали на спине и видели лишь звезды, о которых ничего нового вроде и не скажешь. Я хотел выразить эту свою мысль, но не успел.
— Звезды — это очень дерзкие мужчины.
Это было что-то новое.
— Почему? — спросил я.
— Их много, и они подмигивают.
— Но и женщин тоже много.
— Вроде бы много, но на самом деле это одна и та же женщина. И они не подмигивают, как мужчины. Сравнивать звезды с женщинами — большая ошибка.
Я перевернулся и, перебирая в воде ногами, занял вертикальное положение.
— Итак, — заявил я, ревнуя ее к звездам, — сколько у тебя было мужчин?
Вяло вскидывая руки, она проплыла на спине вокруг меня.
— Если пересчитать все звезды… нескольких будет недоставать…
— Дались тебе эти звезды, — разозлился я.
Резко перевернувшись, она приняла ту же позу, что и я. Мы стояли в воде друг против друга. Мокрые волосы облегали ее голову и плечи, в темноте она чем-то напоминала мне моржа. Я перебирал под водой ногами, словно крутил педали велосипеда.
— Сколько? Можешь сосчитать?
— А тебе непременно надо знать?
— Я понимаю, это глупо, — пыхтел я, — но я должен знать. Дальше будет труднее.
— Дальше? — Она рассмеялась.
— Смеешься! — крикнул я.
— Вовсе нет.
— Тогда говори!
— Тридцать три, — ответила она, выдохнув струю соленой воды.
— Тридцать три! — вскричал я.
Я забыл, что надо двигать ногами, и пошел ко дну, а когда вынырнул, то услышал:
— Тридцать два плюс один, 33.
— Тридцать три — это много, — сказал я, колотя по воде ногами. — Мне придется задушить тебя.
— Прямо в море? Хотела бы я посмотреть, как это у тебя получится…
— Тогда сам утоплюсь. — Я поплыл в открытое море, ритмично чередуя вдох и выдох, словно готовясь к плаванию на длинную дистанцию.
— Нет, уж лучше задуши меня. — Она плыла за мной, с трудом рассекая воду.
Я повернулся и поплыл туда, откуда доносилось ее дыхание. Нырнув под воду, я обнял ее. И, так обнявшись, мы замерли на какое-то время.
— Сейчас я заплачу, — проскулил я.
Она укусила меня за ухо.
— Не стоит, море и без того соленое.
Всерьез меня никто не воспринимал.
Я вытолкнул ее и поплыл к берегу.
— Хочешь не хочешь, а звезды — это мужчины, — крикнула она мне вслед. Маяк вдруг вспыхнул на этот раз справа, оставляя в небе полосу яркого света.
…Вещи исчезли в сумочке, захлопнувшейся с сухим треском. Я пошарил в карманах, вытащил пачку «Мэрэшешть» и спички. Выражение лица у меня, видимо, было отсутствующим, потому что она спросила:
— Где ты был?
— Я уже вернулся, — пошутил я.
Она протянула мне пачку «Честерфилда». Но я предпочитаю курить самые простые сигареты и, чиркнув спичкой, сначала дал прикурить ей, а потом, обжигая пальцы, запалил свой «Мэрэшешть». Я сидел как на иголках: было начало пятого. Грыз печенье, запивал минералкой.
Вряд ли у нее был какой-нибудь шанс устроиться к нам на стройку. Служащих там и без нее хватало, а никакой специальности у нее не было. Она рассказала, что была акробаткой, и назвала свой цирковой псевдоним. Я от удивления вытаращил глаза. Вот, оказывается, с кем свела меня судьба. Я ударился в воспоминания и признался ей, что с детства бредил цирком, в одиннадцать лет влюбился в девочку, которая, изогнувшись в мостике, поднимала с земли платок. Цирк выступал у нас целое лето, и каждый вечер я приходил смотреть на нее. Какое меня охватывало волнение, когда девочка, запрокинув голову, с лицом, пунцовым от напряжения, медленно наклонялась к арене, где миниатюрной пирамидой возвышался накрахмаленный платок. Как я боялся, что она переломится пополам. И, когда она наконец, схватив платок зубами, замирала в этой позе — шиворот-навыворот, выпучив глаза, — мне казалось, что она смотрит именно на меня. Я оживился и подумал, что знакомство наше состоялось только сейчас. Я рассказал ей еще одну историю, случившуюся тем же летом. Над ней потешался весь наш городок. Три месяца подряд цирк давал представления, раскинув свой шатер на общественном пастбище. Постепенно он стал терять зрителей, и тогда дирекция цирка развесила афиши, оповещавшие о том, что известный клоун Флакс, которого мы каждое утро видели с корзинкой на местном рынке, закопает себя посреди арены и пробудет под землей целый час. В этот сенсационный вечер цирк снова ломился от зрителей. Несколько дотошных торговцев, представившись «делегацией от публики», потребовали показать им «установку» — не зарыт ли под землей шланг, по которому может поступать воздух, и не окажутся ли почтенные зрители обманутыми. Что-то вроде этого они там обнаружили и немедленно перерезали всякую связь с внешним миром. Полуживой от страха, Флакс, чтобы спасти спектакль, все же закопал себя. Выдержал он не больше трех минут, подав сигнал тревоги. Лежа в яме, он сжимал в руках веревку, другой конец которой держал директор цирка. Выбрался он оттуда с серым лицом и, даже не отдышавшись, стал поносить торговцев, окрестив их фомами неверующими. Затем, отряхнув с себя землю, скрылся за тяжелыми, отделанными бахромой занавесями.
Читать дальше