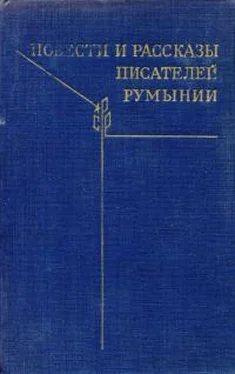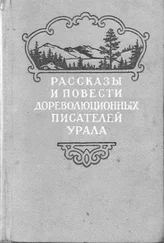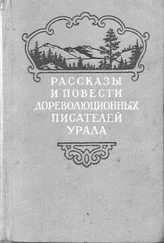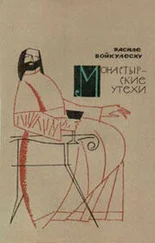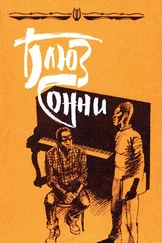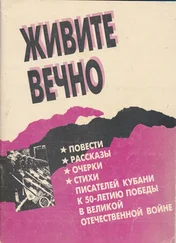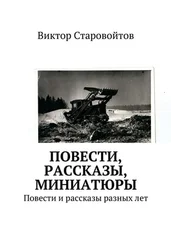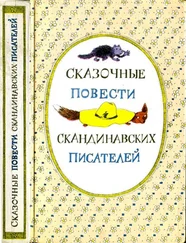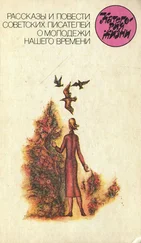Из Трансильвании они подались в Ватра Дорней, и там он нанялся дровосеком. Дровосеку платили больше.
Здесь он и стал Барабором. Бараборами звали холостых, бродячих дровосеков, кочующих с топором за плечами с места на место. Особое племя скитальцев, они нигде долго не задерживались. Сильные и честные, они славились как отчаянные драчуны. На срочную заготовку леса начальство всегда посылало ораву бараборов, и дело слаживалось. Зарабатывая больше других, они хвастались тем, что могут быстро промотать все и остаться в одних лохмотьях, да вдобавок еще и с пробитой головой. «Однажды утром, — с гордостью рассказывал Барабор, — я проснулся в канаве, и бродячий пес лизал меня, как блаженного Иова».
Сначала унтер-офицерша скиталась по заготовкам вместе с ним, работая то поваром, то заведующей столовой, но, когда он начал вести бесшабашную жизнь, она его бросила. Позже ему обрыдли драки после загулов и застольные песни вроде «Пей вино, вино до дна, только бочка нам жена. Бара-бара-бум-бара!» (отсюда и пошло их прозвище «бараборы»). И он пожалел, что потерял унтер-офицершу. Но все шло своим чередом. Он должен был сначала встретиться с унтер-офицершей, потом с бараборами, израсходовать часть своей силы, которая так рано проснулась в нем, и только тогда почувствовать себя свободным.
«Надо признаться, — рассказывал он, — осознавал я это постепенно. Нужна была встреча с унтер-офицершей и с бараборами и многое другое, но смысл происходящего я постиг только после знакомства с господином Зербесом».
Осенью он перевалил через горы и пешком пришел из Родны в Путнинский лесной массив и там в одну из лунных ночей октября услышал, как ревут олени. Черт его дернул сыграть с ними злую шутку. Он приложил ладонь к губам и издал трубный рев, какой издает одинокий самец, задохнувшийся от желания. И она пришла, пришла вместе с другим самцом-оленем, готовым вступить в борьбу со своим одиноким соперником, одолеть его. Они стояли лицом к лицу — олень и человек, его позвавший; со стороны это, видимо, выглядело забавным, во всяком случае, люди, наблюдавшие за ними с края поляны, гоготали, утверждая, что этот самый олень неделю назад подошел к измученной кляче, дремавшей в своей упряжке, перед тем как выйти в поле. С морды его текла пена, расширенными, налитыми кровью глазами глядел он на кобылу, бил копытами землю, и ноздри его трепетали от запаха самки, запаха такого сильного, что трудно было отличить олениху от клячи. Тут было над чем посмеяться.
По субботам все спускались с гор и возвращались обычно не раньше понедельника, а он однажды взял и остался, и тут-то произошло самое главное.
В воскресенье он поднялся ни свет ни заря, сполоснулся холодной водой из колоды и отправился в лес искать подходящий ствол. Он срубил его новым топором, взятым на складе, и приволок на цепи к дому.
— Что ты делаешь? — выглянул наружу повар, услышав удары топора.
— Человека, — ответил он, продолжая рубить.
— Спятил, что ли? — сказал другой.
— Вовсе нет.
— Сегодня же воскресенье! Даже господь бог отдыхал в этот день после сотворения мира.
— У господа было много времени, а у нас нет, — ответил он, — займись-ка лучше своими голубцами.
Позже господин Зербес, тот самый господин Зербес, который больше всего на свете любил все всем разъяснять, узнав об этом случае, счел его проявлением «слепого провидения в самом чистом виде», поскольку нечто подобное произошло раньше с каким-то святым, должно быть, господь бог решил наконец указать Барабору его истинный путь. У всей этой языческой истории с бараборами был некий смысл, говорят, вроде и у древних греков был бог по имени Барабор, от него несло козлом и виноградным суслом, и он с целой толпой пьяниц шествовал обычно на сбор винограда.
Сначала Барабор вырубил просто смиренного человека, с руками, сложенными на груди, и с закрытыми глазами; так почивали в своих деревянных гробах усопшие в могилах Вранчи, у изголовья которых деды и прадеды понаставили столько крестов из раскрашенного камня.
Всю зиму и весну до следующей осени Барабор сражался с деревом и на каждом новом месте водружал рубленые фигуры, которые, подобно верстовым столбам, отмечали его передвижение. Он скитался из Путны в Марамуреш, из Марамуреша в Западные горы, оттуда в Хацег и в страну Бырсей. Бродячий образ жизни в какой-то степени еще оправдывал его прозвище. Судьба вела его по кругу, центром которого был церковный приход господина Зербеса — пастора из Р. В саду пастора бегали домашние кролики, а колокольня старой протестантской церкви оглашалась вечерами галочьим криком. Еще задолго до той осени, когда Барабор появился в Р., его деревянные фигуры все меньше и меньше стали походить на людей. В них проявлялось что-то отвлеченное, даже тогда, когда они были высечены вместе с древними своими орудиями труда — льномялками, мотовилами, воловьими хомутами. Но именно это и нравилось господину Зербесу. Барабор повторял слова пастора: «Они несли на себе печать божественного духа, духа вечного, нетленного в отличие от человеческой плоти, которая рождается и умирает в земном водовороте!» И все, вероятно, шло бы своим чередом, если бы бригадир лесорубов — человек бывалый — не предложил молодому дровосеку, который, правда, теперь больше занимался резьбой по дереву, чем рубил деревья, попытать счастья в Доме народного творчества в Р. В путевом листе машины, которая повезла его столбы, в шутку написали: «Дрова, чтобы оправдать дармовой расход бензина». Господин Зербес, обуреваемый коллекционерской страстью, исколесил всю Трансильванию в своем стареньком с брезентовым верхом «форде» образца 1930 года. Он был постоянным клиентом Дома народного творчества. Денег у него не водилось, и расплачивался он своим нелепым «фордиком», давал его любому, кто в этом нуждался. Пастор понял, что встретил наконец, того, «кого он ждал все время» (это его подлинные слова), он приютил Барабора в своем доме, взяв его прислужником в церковь. Платил ему приход. «Платил» — сильно сказано. Просто у него была крыша над головой, и кроликов он ел столько, сколько ему не пришлось съесть за всю жизнь. Кое-какая мелочь оставалась у него на сигареты и на подметки для ботинок, в которых он ходил постоянно, да еще спустя два года в них явился в Бухарест. Пастор подучил его немецкому языку, чтобы он мог разбираться в кипе альбомов по искусству, ориентироваться в многочисленных томах в кожаных переплетах, собранных в его библиотеке, окна которой выходили в сад с кроликами. Зербес даже репетитора приставил к Барабору… Это была Пия, маленькая, полненькая чернявая девушка, напичканная знаниями, студентка филологического факультета, племянница сестры пастора. Она сопровождала Барабора в Бухарест, когда тот поехал сдавать экзамены в институт.
Читать дальше