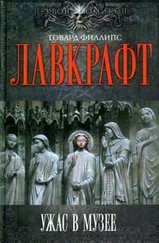— Приходят в дом? У нас попрошайки не ходят по домам. Мы делаем взносы в ферейн, и на двери висит табличка, что квартира находится под защитой Союза против домашнего попрошайничества. Вряд ли какой нищий даже сунется, если консьерж вообще впустит его в парадную.
— Странно. Такие общества опеки над бедными у нас тоже есть, только они мало кому нравятся.
— Вы имеете в виду, беднякам?
— Не только, другим тоже. Пожертвования нужны, бедные имеют на это право. По меньшей мере надо отдавать десятую часть доходов, для евреев это закон. И давать надо от сердца, а как давать от сердца, если не знаешь, кому идет твоя помощь. Я с детства принимаю участие в платежных днях.
— Так у вас и вправду установлены определенные дни?
— А как же! Иначе будут постоянно мешать. Каждая семья назначает свой день приема. А у вас такого нет?
— Наш берлинский журфикс имеет несколько иной характер, — усмехнулся Хайнц.
— Люди привыкают к такому порядку вещей, — Ривка продолжала свою мысль. — И знают, что у Шленкеров, например, выдают по четвергам, помимо особых праздников. Конечно, это всего лишь копейки, но люди на них рассчитывают. Если человек почему-либо не смог прийти, в следующий четверг он получает двойную сумму. Иногда люди даже бастуют.
— Бастуют?
— Ну да. В одной семье — не буду называть их фамилии — давали слишком мало, так к ним вообще не стали приходить. Это был настоящий скандал. Такой позор для семьи! Им пришлось долго извиняться и упрашивать бедных, чтобы те вернулись.
— Невероятно! У нас просить милостыню запрещено законом, а побирушки — самые подозрительные элементы на свете!
— Наверное, у вас каждый может устроиться на работу. У нас бедных не презирают. Наоборот, если в городе появляется незнакомый нищий, то его наперебой приглашают к себе за стол.
— И не только нищих, как я сегодня заметил, — улыбнулся Хайнц.
— Всякий гость нам в радость. Надеюсь, вы не слишком удручены, что не бедны? — расхохоталась Ривка.
— Пожаловаться не могу, — смущенно ответил Хайнц.
— А чтобы сегодня к седеру получить гостя, так это большое счастье!
— Простите великодушно, должен признаться, я понятия не имею, что такое седер. Уж лучше сразу покаюсь в своем невежестве по поводу еврейских обычаев!
— Что ж, сами увидите. Ребенком я воспринимала этот вечер как самый лучший в году, самым сияющим, воплощением света. Хотя для евреев он всегда был да и остается самым опасным. Видите, что я сейчас делаю? Иду патрулировать улицы!
— Так я не ослышался? Должен признать, что принял ваши слова за шутку. Даже на моей милитаристской родине женщины освобождены от воинской службы.
— Это не воинская служба. Я — член еврейской самообороны. Для вас, должно быть, не секрет, что здесь ожидаются погромы.
— Что-то такое слышал в поезде. Так это реально?
— Во всяком случае, надо быть готовыми, поэтому мы и организовали отряды самообороны.
— А девушки тоже обязаны сражаться?
— Что значит «сражаться»? Конечно, хорошо бы каждой женщине иметь оружие, чтобы защищаться — не нападать. Но даже у наших мужчин его нет. А то, что было, уже изъяли. Для этого и проводятся обыски.
— Так вы безоружны? А как же собираетесь противостоять?
— Кое-что удалось сохранить, правда, за пределами местечка. Там в случае чего и соберутся члены самообороны, когда возникнет необходимость. А пока что мы патрулируем улицы и стараемся выглядеть как можно безобиднее. Для этого лучше всего подходят девушки. Если же заметим какую опасность, тут же дадим знать. У нас есть места, где постоянно дежурят посыльные, которые передадут сигнал тревоги дальше.
— Странное занятие для юной дамы! А вам не страшно?
— С чего бы? Страшно вообще наше положение, эта черта оседлости. Мы здесь вроде чужаков.
— Сожалею от всего сердца. Вы чувствуете себя чужими, должны так чувствовать. Значит, вы лишены любви к родине, свойственной евреям в Германии.
— Вы ошибаетесь, если думаете, что вы больше привязаны к Германии, чем мы к России.
— А разве это не так? У вас нет родины, вы здесь бесправны и отвержены, а немецкие евреи имеют твердую почву под ногами, они равны в правах с остальными гражданами, разделяют радости и страдания всех подданных государства.
— Ничего не знаю о ваших личных отношениях с государством, поэтому и говорить не буду. Но разве любовь к стране зависит от того, хорошо или плохо вам в ней живется? Вы неверно меня поняли. Не хочу сказать, что вы не любите Германию, об этом не знаю, но знаю, что люблю Россию.
Читать дальше