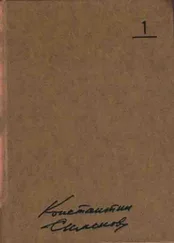О чем шумят деревья?
О чем щебечет птичка?
О чем травка колосится?
Отчего душа так стонет?
Оттого что негде ей приткнуться…
Сильный ветер… снег поднимается с земли в виде снежной крошки и забирается под одежду. Стегает по лицу. Я беру камень и прикрываю им мою книжечку со стихами — найдут те, кому Судьбою надписано, рядом — завещание близким, «откровения».
Тонким красивым почерком записал прощальные слова, только грамоты не хватает выразить все… неупиваемое оно:
«Прожил прекрасную жизнь! Радуйтесь смерти моей, как рассветному солнцу, ибо взойдет новая звезда на небе, и она осветит вас Добром своим, — это буду я. Поминки мои пускай станут именинами. Смейтесь, видя полый сосуд, опустевшее тело мое… я уже наверху — приставлен к вам: оберегать, помогать. Помните обо мне только хорошее. Помните, как счастливы были со мной, как счастлив был с вами я! От слез уберегайтесь. Все неизменно к лучшему! Нет греха, который не простил бы нам Господь. Все, что должно произойти, — произойдет. Все однажды восстанет из небытия, и мертвое воскреснет. Умрет тлен, и оживет Дух.
Тело мое завещаю земле русской, схороните меня красивым… там, где дерево, одинокий орех, растет. Наставляю каждому безутешному сердцу, в борьбе отчаяний, прийти ко мне на могилу и коснуться горячего черного обелиска. Он раскален моей любовью… я буду греть вас! Я Живой всегда! Где-то…
Ваш до смерти, и после… Адам».
Черна и сильна земля внизу… большие камни. И ты уже не бог весть кто… так, плевок растертый. И вот смотрю я на такое: на горы, с неумирающей их красотой, с торжеством всего над всем, высотой не просто физической, но как бы внутренней, глубинной, духовной высотой, — и сердце на истерике, на пытке: никакой красоты не останется. Что еще сказать: камни.
Вот он — шаг в «сон последний»: сделаю — и закончится все . Из плена жизни, свободой вечной осужден. Внутри меня ломается что-то важнее костей. Отстрадалось сердце… слишком чувствует: жмется и бьется… нехорошее дрожание в груди. Руки-ноги тоже дрожат, в глазах — темные пятна….
Я заношу ногу… пустой, никчемный, бестолковой жизни человек… глаза волчьи, образа звериного, — только остывшие… выпирает в груди — вот-вот вылетит!.. А рядом парнишка: кепочка синенькая, на самые глаза надвинута; смирный такой, стеснительный. И коль обидит кто — обидчивый уж больно, — то тихо сносит, виду, конечно не покажет. Гладит его мамина рука по тонкой спине и жалеет — худенький очень. Он на нее глазками: легкое солнышко в них — и у нее ни тени на лице… разгладилось все. Потом закрыл глазки ладошкой — затменьице сделал, и через узенькую-узенькую щелочку, сквозь пальцы, глядит на меня — прощается.
Не поделить нас никогда: так и сорвемся вниз тройкой нераздельной… душой над тленьем!.. отдадим себя Богу. Искушение накидывает петлю: [Если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: «Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею»].
И вдруг… откуда-то в небе — из него как бы спускаясь-падая — проявились полосы света, разметало этот лучезарный свет. Божественное светопреставление — такие странности необъяснимые, но хочется верить: святые!
И я очень верю, задирая кающиеся глаза к этому спасительному свету… слезами досказываю. И если есть кто-то, как и я, — много ли нас таких, беспризорных, которые в этом свете Бога разгадывают?.. — этот свет — для нас. Стою, безудельный, глазами колюсь об вершинные иглы. Душа моя живая, где ты?!
И услыхал я голос, вздрогнул от неожиданности: из-под земли голос. Зовет меня кто?.. Мерещится, что ли?..
Старый-старый человек… рядышком приткнулся, росточка совсем невысокого, — в землю врос, как росток в дерн; уже без имени, наверное… точно ходит он и смерти найти не может. Тот самый, с вокзала… Замотан он во всевозможные куртки-шарфы — за ними застоявшийся взгляд: кустятся-топорщатся лохматые брови; а ведь добрых глаз не скроешь… смотрят они любовно. Лицо его освещено голубым светом, но с осадком… Мягкие, синие глаза… и что-то слышу я в них, как бы в нутро пролез. Такая тоска русской души: она еще видела, как пишут настоящие, волнующие письма, как читают их, окропляя слезами.
Засосало под сердцем. Смотришь на память, на живую форму, и какое-то неопределенное чувствование, и необъяснимая скорбь охватывают тебя. Лицо души русской — все в шрамах… не выкурится из нее страдание. А улыбки… оставьте их «разбойникам», только б и они спаслись.
Читать дальше