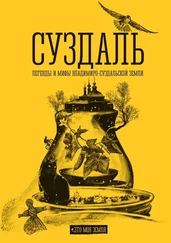Но еврейские корни никак не находились.
Корни нашлись случайно, через знакомую в МВД, которая сделала запрос по своим каналам. В семье дед никогда не говорил, кто он, откуда, из какого рода, кто наши предки. А предок оказался из НКВД, времён Большого Террора. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день, подумала я. Теперь вряд ли меня куда-то возьмут, с таким-то генеалогическим древом.
Я вспоминала, как в детстве дед жёг в бочке кипы каких-то документов, я думала тогда, что это ненужные бумаги, и помогала носить.
НКВД-шником был не мой дед, а его отец. И чем больше я изучала, тем больше понимала, что история там очень тёмная. Моего прадеда взяли работать в НКВД, потому что он был грамотным, чуть ли не единственным в селе Владимирской области. Распределили куда-то на север, кадров не хватало, его семья в лице моей прабабушки, молодой тогда женщины, и маленького шестилетнего сына, отправилась вслед за мужем и отцом.
Из архивов я узнала, что да, работал, но был уволен через несколько лет по странной формулировке: «в связи с невозможностью исполнять обязанности». По воспоминаниям ещё не умерших стариков-соседей, которых я обошла, дедушкина мама забрала сына и вернулась во Владимирскую область.
Я сверяла старые фотографии и страшные отсканированные документы со списками фамилий, номеров приказов за подписью тогдашних работников НКВД. Страницы на экране, серые, жуткие, казались мне горящими в адском пламени. Я запрашивала архивы местных отделений ОВД Владимирской области и всех тех областей, где мог работать прадед. Мне не отдавали документы, потому что я не могла доказать родство. Дед уничтожил все письма, свидетельства, а я ему когда-то помогла.
После увольнения следы моего прадеда пропали, дальнейшая его судьба была неизвестной — а это 30-е годы, когда перемололо огромную часть страны. Дожил ли он до войны? Участвовал ли в ней? Может, уехал в далёкое глухое село и зажил там, снова женился? А может, умер где-то в окопах?
Знаете, сколько у каждого из нас прадедов? Четверо. Знаем ли мы их судьбу? Представьте себе здоровых взрослых мужчин, которые живут в 20-е, 30-е, 40-е годы. Кто-то защищал Сталинград. Кто-то пережил блокадный Ленинград. Кто-то прошёл войну, работал в тылу, на заводе, директором или начальником, потому что отпустить не могли — заменить некем. Кто-то летал и сбивал немецкие «мессеры», а кто-то попал в плен, работал на фермах как батрак, а потом стал врагом народа. Кого-то, уже обрусевшего давно, немца или поляка, сослали за происхождение в Казахстан — поднимать целину, копать землянки и жить в них, питаться горькой степной травой. А кого-то — в ГУЛАГ. Кто-то мог быть токарем, агрономом, механиком, машинистом поезда — и жить обычной тогда жизнью. Мы их представляем глубокими стариками, лицами с фотографий в семейных архивах, а у кого-то и фотографий-то нет. А они были молодыми, полными жизни, как мы.
В архивах, где я работала (могу уже смело идти за дипломом исторического факультета, получила свои десять тысяч часов налёта), всё чаще мелькал Суздаль. По всем приметам пути вели к нему.
В детстве нас каждое воскресенье возили на службу, смотреть на храмы и воцерковляться. Я запомнила в этом городе, соседнем с нашим родным Владимиром, только белые стены, иконы и огромное количество церквей и бабушек в платочках. И все знали, что делать — где стоять, что петь, как креститься, как держать свечки, — а мы нет.
Ехать мне не хотелось, конечно, ещё и зимой, но я уже потратила очень много сил и времени. Муж сначала поддерживал, а потом начал относиться к моим «капризам» всё более прохладно и раздражительно. По всему выходило, что израильское гражданство ему не светило, зато светил в его леволиберальных журналистских кругах статус «а у него жена — правнучка палача».
Билет на поезд до Владимира я купила, когда муж уехал в очередную командировку, на конференцию по правам человека. Мне повезло, конференции проходят в Европе, лететь далеко, связь дорогая, интернет в отеле не всегда ловит.
Пока я ехала в поезде, за три часа прочитала всё, что нашла. Спасо-Евфимиев монастырь, второй после Соловецкого по известности, некогда был тюрьмой для политзаключённых, тюрьмой для тех, кто вернулся из Германии после плена, фильтрационной тюрьмой, лагерем для военнопленных, а после — детской колонией, сначала для мальчиков, а потом и для девочек.
Когда доехала до Владимирского архива, долго спорила, показывала копии дедушкиного диплома с фамилией, свой паспорт с фамилией (хорошо, что не меняла), доказывала начальнику архива часа два, что имею право, махала законами, постановлениями. Кричала уже почти, чувствовала недоверие, чувствовала, как эта дверь не хочет меня впускать. И наконец, прошла металлоискатель, сдала на входе телефон, вещи, ключи, прошла досмотр, и тяжелая железная дверь открылась — я как в тюрьму вошла. Взяла с собой лишь блокнот с ручкой, открыла «Дело №…» моего прадеда и похолодела. Постановление об аресте, протокол допроса, постановление о расстреле, справка о приведении приговора в исполнение.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
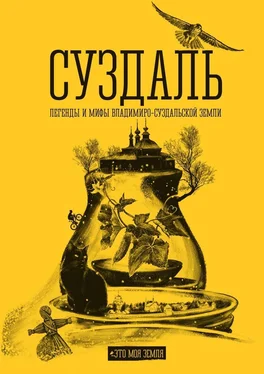


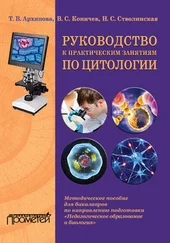
![Татьяна Иванова - Наследник Земли кротких [СИ]](/books/386653/tatyana-ivanova-naslednik-zemli-krotkih-si-thumb.webp)
![Татьяна Кононова - На заре земли Русской [СИ]](/books/431338/tatyana-kononova-na-zare-zemli-russkoj-si-thumb.webp)