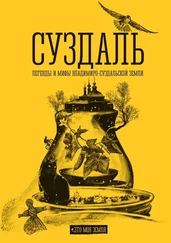— Ты же их никогда не ела, Катюша, никакие, кроме яблочных, — тёплые мамины руки легли поверх ищущих Катиных кистей.
— Правда? А помню, будто любила все — и с капустой, и с грибами, и яблочные, — Катя подалась вперед.
Уткнуться носом, окунуться в тёплые ладони лбом, дышать сквозь них. Или лечь головой на колени. На обтянутые шерстяной полой домашнего платья колени, и пусть гладит. Маленькой тёплой сильной ладонью по волосам, по щекам. Неспешно, долго, монотонно. Гладит, а я перестану бояться. Гладит, а я усну. И мама гладила. Гладила Катю, зарывшуюся выцветшей головой в складки щекочущей материи на коленках.
— Мама, у тебя так мало моих фотографий. Я пришлю ещё. Вернусь домой и пришлю. Много-много. Своих и Илюшки.
— Конечно, родная, конечно, пришлёшь, — мамин голос, ровный, мирный, доносился сверху, откуда-то, где было спокойно.
— А ты вставишь их в этот альбом? А если не войдут, я пришлю новый. Сразу-сразу пришлю. Большой новый альбом, потому что у нас много-много фотографий. Илья из Канады каждый день шлёт, — Катя запнулась. Фотографии сына ей пересылал Званцев. Илья каждый день присылал фото ему. — Он знаешь какой взрослый? Отца перерос. Девочка у него. Тоже русская. Ну как русская, из Минска. Красивая. Говорит, готовит вкусно. Может, женится. Я и её фото пришлю, хорошо?
— Хорошо, детка, хорошо, — мама приподняла Катину голову и устроила на своей руке, будто укачивала её, пятилетнюю. Маме не было тяжело. А Катя — она и была пятилетним, уставшим от долгого суматошного дня сорванцом. Она и не знала, как можно устать, если весь день носиться по Суздальским улицам с оравой таких же тощих и заводных.
— Мама, почему я бросила рисовать? — встрепенулась Катя, словно вспомнила что-то важное, — ты знаешь, я ведь перестала рисовать, всегда рисовала, и вдруг перестала?
— Знаю, детка, знаю. Ты устала. Ты очень устала, — мама обняла поднявшуюся было Катю и снова уложила её голову на руку. Катя поддалась — пусть укачает. И Кате было удобно на тонкой, теплой, сильной руке.
— Мама, ты не уйдёшь? — полушёпотом, под стук материнского сердца спросила Катя. Или не успела спросить, засыпая.
[10]
Утром вернулась боль. Свалилась обухом и растеклась по макушке. Приступ. Катя почувствовала его за секунду — в последний месяц приступы участились. У них не было увертюры: боль не зарождалась, не расцветала, а разом бахала со всей дури. Между привычным миром и Катиным болевым измерением вырастала толстая, пожирающая свет и звук стена. Катя не боялась приступов — бояться можно неизвестного — Катя от них устала. Глубоко, безвозвратно, каждой клеткой, каждым волокном нерва, агонизирующим, рвущимся в спазме. Приступ. Боль не заглушить таблетками. Лечь. Любым способом лечь.
Катя сползла с зелёного дивана на пол: лежать здесь казалось безопаснее. Пить. Боль сушит, наждачит горло, трахею, пищевод. Боль нужно запить. Выпить её. Растворить. Боль конечна, Катя знала это наверняка, её нужно просто размыть. Смыть, как потёки извёстки с пола и стен. Стечёт, сдастся, поблекнет и утечёт — туда, откуда пришла. В ад.
Подняться сразу не смогла. Обивка дивана сливалась с половиками — они путали, специально путали Катю, глазам было горячо, не могла понять, куда тянуться, где чёртов диван. Закрыла глаза. Смотрела руками. Тут зыбко и морщится — это вязаный половик, скользкий, не встанешь. Вот твёрдое, тканое — бок дивана. Руками смотреть удобнее. Зацепилась, подтянулась, облокотилась, шатко встала с колен. Глаза открывала осторожно, чтобы снова не обманули, не дали упасть. Свет полоснул через щели приоткрытых век. Больно! Мама, почему так больно? Сделала шаг в сторону кухни. Качнулась. Устояла. Смотрела неподвижно только вперёд — так боль можно держать в наполненной до краёв чаше, но она не расплёскивается. А пошевелить зрачками — значит, расплескать. Значит, зальёт до груди.
Ещё шаг. Нога упёрлась в острое, твёрдое. Стопка альбомов. Нужно раздвинуть, освободить, пусть. Катя наклонилась. Чаша опасно качнулась на своём пьедестале. Ещё, ещё. И выплеснулась — вся.
Боль оглушила, ослепила до белого, раскалённого белого. Новая боль взвизгнула где-то в макушке и, набирая обороты, понеслась вниз по Катиному телу. Вжух, пронеслась по лбу, глаза жгло, рвало и ломило. Вжжжух, полоснула по затылку, и по её следам заполыхала, запульсировала, загорелась искрами всё ярче и ярче другая, последняя боль.
Катя не увидела, почувствовала — острый угол фотоальбома впился в подреберье. Просунув обе руки между собой и обложкой, Катя отталкивала альбом, но он, такой тяжёлый, многотонный, остался на месте. Мама, почему так больно?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
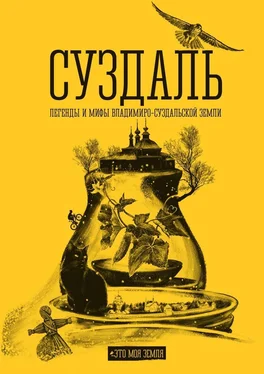


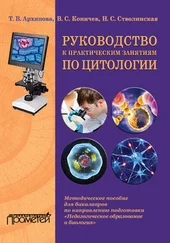
![Татьяна Иванова - Наследник Земли кротких [СИ]](/books/386653/tatyana-ivanova-naslednik-zemli-krotkih-si-thumb.webp)
![Татьяна Кононова - На заре земли Русской [СИ]](/books/431338/tatyana-kononova-na-zare-zemli-russkoj-si-thumb.webp)