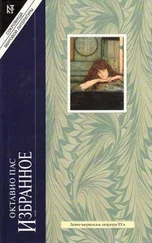Густо-сливочной была оправа его очков, которые он носил скорее для солидности, чем для коррекции зрения. Волосы у него тоже были сливочного цвета, но уже пожиже. Кожа у Панды, в отличие от желтовато-бледной, почти землистой кожи Шимански, была густо-сливочная с вкраплениями маслянисто-красного. И костюм Рича Панды из нежнейшей, богатейшей, самой сияющей шерсти на свете тоже был цвета сливочного масла. Что уж говорить о галстуке. В общем, он смахивал на солнце, когда, вися над бухтой Напиг, оно из белого шара превращается в шар густого сливочного цвета. Толстяк, но отнюдь не добряк, круглый, как лицо «человека на луне», и такой же зловещий, потому что его невозможно было как следует разглядеть. Не потому, что он слепил, как солнце, или прятался в буйных кудрях парика, как Людовик XIV, а потому, что нельзя было даже отдаленно представить себе, несмотря на его улыбку, что происходит там, в глубине его холодных, голубых, как у хаски, глаз.
Выйдя из лифта, Жюль оказался в приемной, предваряющей роскошнейший зал заседаний. Его встретила потрясающей красоты женщина, стоявшая под громадной картиной Пикассо. Она поприветствовала Жюля и проводила к отведенному ему креслу.
Жюль обратил внимание на лица членов совета, на их одежду. Женщины – одна лет тридцати, двум другим явно за пятьдесят – были одеты дорого и элегантно, их прически и макияж сотворили руки профессионалов. Украшений не много, но весьма впечатляющие. Дамы сидели так прямо, будто кол проглотили, и каждая держала в руках сумочку и чехольчик из чрезвычайно дорогой кожи, в котором прятались разнообразные электронные штуки. Жюль чувствовал аромат их духов. Они были красивы. Но хотя у этих дам имелись все женские атрибуты – тонкость, изящество, красота и все прочее, – они были заведомо неженственны, просто потому, что сами так захотели. Они спокойно, но несомненно излучали подозрительность, агрессию, самоутверждение, и создавалось безошибочное ощущение, что они подобны сжатым пружинам. Наверное, женщины подсознательно чувствовали, что подобные качества необходимы в этом, когда-то исключительно мужском мире, но Жюля эта аура отпугивала, как и аура всех мужчин за столом – те же подозрительность, агрессивность и самоутверждение. Предполагалось, что, будучи членами совета директоров, они руководили компанией, всецело соблюдая ее интересы. И от рвения каждого из них зависело его личное благосостояние и статус. Они говорили и чтобы покрасоваться, и чтобы дискредитировать коллег, не оставив при этом отпечатков пальцев. Они рвались к успеху так же упорно, как расфуфыренная публика ломится в модный ресторан.
Всего вместе с Джеком Читемом и Ричем Пандой в зале пребывало девять мужчин. Никто не обратил внимания на Жюля, и он продолжал изучать их.
Жюля поразило то, как изгибались лацканы их пиджаков. Он не разбирался в моде и никогда особенно не приглядывался, кто во что одет, особенно мужчины, но сейчас эти лацканы его просто заворожили. Немецкое слово «лацкан» странно звучит, если повторить его несколько раз мысленно или вслух, «отворот» – куда понятнее. Для читающего по-английски француза слово lapel , обозначающее этот самый лацкан, вообще смешное, ибо по-французски la pelle – «лопата». Жюлю, конечно, было невдомек, что все мужские костюмы в этом зале были из магазина «Пол Стюарт» и каждый сшит по индивидуальному заказу у Самуэльсона в Монреале, а лацканы воплощают собой многие характерные черты Америки: ее нецеремонность, богатство, уверенность – и даже изгибы волн, бьющихся в эту самую минуту о тысячи миль широчайшего, продуваемого ветром, изрезанного заливами и бухтами побережья, что тянется от Бруклина до Монток-Пойнта. В Париже ему ни разу не доводилось видеть такие отвороты. Парижские лацканы были плоскими и бесплотными. А здешние – полнотелые и солидные, казалось, придавали содержание всему облику. Жюль подумал, что такая мягкая, шикарная материя просто не может лежать иначе.
Помимо палисандровых панелей и тонкой выделки кожи на креслах, в зале заседаний было много стекла – и прозрачного, и матового, – все очень толстое и тяжелое. Это стекло, а еще длинный миллионерский ореховый стол были солидным противовесом несколько тошнотворному качанию «эйкорновской» башни. Через окна во все стороны света виднелись Атлантика, пролив Лонг-Айленд, Гудзонские высоты и отдаленные горы Рамапо.
Совет заседал с восьми утра и прервался на ланч в обеденном зале, куда вел первый из многих лестничных пролетов, спускающихся на десять этажей внутри небоскреба. Хотя обеденный зал находился лишь этажом ниже, электрический кухонный лифт доставил наверх чайный и кофейный сервизы, чтобы до возобновления работы мужчины и женщины в одежде французских официантов расставили их перед членами совета. Перед каждым стояла чашка с золотым ободком на блюдце и отдельный термос-кувшин с кофе или чаем. Вдоль осевой линии роскошного стола красовались серебряные подносы, усыпанные птифурами и горами какого-то длинного печенья в целлофановой обертке, вроде того, которого вечно не хватает в самолетах. Пока сидящие за ореховым столом шелестели бумажками, вкушая чай и кофе, их референтам, сидящим вдоль палисандровых стен, ничего так и не было предложено.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу