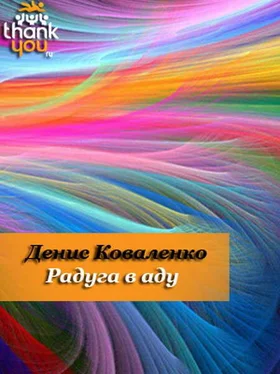Какое-то время Вадим стоял во дворе, уже в чужом дворе… защемило что-то — что-то внутри. Тоскливо. И разбитые стекла, и исписанные стены — сам же исписывал их: вечером выходили с пацанами с банками краски и кистями — все это и писали, всю эту мерзость. Где теперь эти друзья, где теперь лучший друг Серега… дома ли, какая теперь разница. Вадим вошел в подъезд, поднялся на третий этаж и нажал кнопку звонка, впрочем, не надеясь, что дома вообще кто-нибудь будет.
— О! Вадик, заходи, — в дверях стоял Серегин отец, мужичек нервный, взбалмошный, а когда выпимши и вовсе без тормозов, а сейчас Серегин отец был выпимши. — А я думал, что дверь пришли ставить. Заходи, Вадик, — махнул он ему, приглашая, — как раз вовремя. Да заходи же, — обняв, провел он Вадима в комнату, — и не вздумай разуваться, понял! не вздумай, — грозил он, востро заглядывая Вадиму в глаза; роста Серегин отец был невысокого, если не сказать, маленького, руки, ноги — худые, но жилистые; в семейных трусах, в белой майке, босиком, вел он упиравшегося Вадима.
Комната небольшая и вся заставленная, и ступить было некуда: у стены сразу диван, на стуле грузный мужик пьяно глядел на Вадима, посреди стол, позади сервант, у окна телевизор, в углу на маленьком столике компьютер и возле компьютера Серегина раскладушка, теснота — только боком и можно было ходить.
— Я дубленку сниму.
— Дубленку давай, а разуваться не смей. Ты — гость, — обрубил Серегин отец, — дубленку сюда, — бросил на диван, — а сам сюда — ты гость, — усадил Вадима за стол. — Вот, — это лучший друг моего Сереги, — с ходу представил он Вадима грузному, устроившемуся в углу на стуле мужчине.
— Приветствую, — кивнул тот.
— Это Борис Евгеньевич, золотой человек — публицист, — суетился Серегин отец. — Публицист, я тебе говорю, — осадил он готового возразить Бориса Евгеньевича, — а я тебе говорю, публицист! — как отрубил он. — Смотри у меня, — любя, замахнулся он на публициста, — а то я тебе своей трудовой мозолистой рукой народного поэта… Ферштейн?! Вот так вот! — победно заключил он. — Ну, Вадим, садись, то есть, присаживайся, давай, пей, закусывай. Ты — гость.
Вадим, повинуясь, неуютно, на краешек, присел на стуле у самой двери, все стесняясь своих ботинок: от тепла под стулом на линолеуме зачернели мокрые грязные следы. В комнате было жарко, и оттого в меховых ботинках было и вовсе некомфортно, но как их было снять, когда Серегин отец шагу не давал сделать.
— Пей, Вадим, — приказывал он, — сегодня надо, сегодня день такой. Сегодня моя сестра с ума сошла. Конечно, не сегодня, она неделю, как рехнулась, и все за одно с братцем нашим младшим, в ребро ему дышло. У-у, паскудник, — погрозил он в окно, — у-у, паскудник. Теперь вот оно. Вот! — затряс он кулаком.
Борис Евгеньевич невольно глянул туда, куда грозил Серегин отец. Выглядел Борис Евгеньевич крайне усталым, даже истомленным: они уже выпили бутылку водки и теперь допивали вторую; Серегин отец только разошелся, Борис Евгеньевич, видно, уже был не против перебраться на диван и вздремнуть.
— Помнишь, у меня машинка швейная стояла «Зингер»? — Серегин отец, склонившись, нервно заглядывал Борису Евгеньевичу в уже осоловелые глаза, — помнишь?
— Ну… помню.
— Так вот, из-за этой машинки, она и рехнулась.
— Любопытно, — произнес Борис Евгеньевич без малейшего любопытства. Время было полуденное, Борису Евгеньевичу нужно было еще заехать в газету, где он работал редактором, но, понимал он, если он и поедет куда, то теперь только домой, спать. Он уже и не рад был, что согласился зайти на полчасика к своему старому знакомому глянуть несколько новых стихотворений. Серегин отец хоть и работал на заводе, сочинял стихи, и Борис Евгеньевич их печатал, и даже статью про Серегиного отца написал, теперь думал, что зря. «Вот ведь, встретился он, к нелегкой», — соображал малодушно Борис Евгеньевич. — Ну и… что с ней произошло, с твоей сестрой, — не сдержавшись, сквозь зевок, спросил он.
— Всему виною эта машинка.
— Интригующе, — и, не удержавшись, публицист зевнул еще раз.
Налив всем троим водки, подбодрив гостей, подождав, пока выпьют, Серегин отец выпил сам, засунул в рот щепотку хлеба и, пережевывая, заявил:
— Этой машинке уже лет сто пятьдесят, если не больше — реалитет.
— Раритет, — привычно поправил народного поэта публицист.
— Какая разница, — раздражился поэт.
— Действительно, — согласился публицист и добавил, — ну, и?
— Ну и вот: машинку эту когда-то купил еще наш дед, купил с рук у какого-то там тоже мужика, который, в свою очередь, привез ее из Германии. Машинка эта, как говорили, первая модель «Зингер», выпускаемая с ножным двигателем. До этого «Зингер» только ручные швейные машинки выпускала. А которую дед мой купил — та с ножным.
Читать дальше