А когда мальчик перешел в восьмой класс, появилась другая беда. Если до этого Анну Панкратовну никак нельзя было зазвать в школу, то теперь мы часто видели ее в кабинете директора или в учительской.
— Что делать? Ума не приложу. Нисколь не слушает меня. Ни в чем не помогает. Живет, как барин какой.
Мы беседовали с сыном, объясняли, что матери надо помогать, но наши слова его мало трогали. А помощь Анне Панкратовне была особенно нужна — отец в это время ушел из семьи к другой женщине, и Григорий оставался в доме за старшего.
Потом отец вернулся — потускневший, постаревший, какой-то пришибленный. Жена простила, а сын, должно быть, нет. С тех пор он стал звать отца на «вы».
Что ж из себя представлял Гриша? Эгоистом его назвать нельзя. Он не помогал дома, но с удовольствием брался за любую работу в школе: развешивать ли первомайские флаги, чинить ли изгородь, сажать деревья — везде он первый. Вспоминается такой случай: ученики убирали картофель на пришкольном участке. Неожиданно в небе застрекотал вертолет — в то время это было большой редкостью. Вертолет пошел на снижение и опустился где-то на берегу реки. Ребята побросали ведра и побежали смотреть это чудо авиационной техники. Лишь один Гриша, как ни в чем не бывало, продолжал выкапывать клубни и складывать в ведро. Может быть, правильно он поступил, но как-то не по-детски.
Что еще вспоминается? Он любил читать. Много читал об Отечественной войне, о партизанах. Никогда ни на кого не жаловался — ни на товарищей, ни на родителей. Не обижался. А для обиды были поводы. Мы знали не все, но кое-что бросалось в глаза. Когда в восьмом классе в зимние каникулы все ребята отправились на лыжные соревнования, отец заставил Григория ехать с ним по сено. А летом, когда выпускники отправились на экскурсию в Москву, ему одному родители не дали денег.
Запомнил я, как он получал свидетельство об окончании школы. Мы обставили это событие насколько возможно торжественно. Стол, покрытый красной скатертью, букеты огоньков, похвальные грамоты, книги на память. Выпускники собрались в небольшом зале. Фактически это не зал, а большой коридор между классами, шагов двадцать в длину. И их надо было пройти от стены, где стояли скамейки, до красного стола, за которым сидели учителя. Пройти перед глазами товарищей и почувствовать их взгляды, особенно девочек, — они-то все умеют заметить и оценить. И Григорий прошел эти двадцать шагов, смущаясь, излишне твердо шагая в старых, разбитых ботинках. И я почти физически ощутил, как жгут ему ноги эти разбитые ботинки. Почему же мать не позаботилась тогда, чтобы сын был одет соответственно торжественному моменту?
…Анна Панкратовна зазывает меня в дом.
— Давненько у нас не были. Зайдите.
И в доме опять разговор о Григории. Вот его фотография — он в военной форме. Вот последнее письмо — уже пожелтевшее. Удочка, с которой он ходил на озеро. Не сошла еще щербинка с кухонного ножа — однажды он пробовал перерубить им гвоздь.
Анна Панкратовна спрашивает:
— А как вы посоветуете? Послать ему гостинчика? Или не заслужил? Как уехал на Север — ни строчки. И за два года ни копейки. Как быть? Через суд стребовать?
Я сижу и думаю — что ответить? Конечно, суд вынесет справедливое решение. Престарелым родителям будут идти деньги по исполнительному листу. Только разве такие горькие деньги ей нужны? Иного она хочет. То, чего ни по какому исполнительному листу не «стребуешь». И постепенно я понимаю, что ответа она от меня и не ждет, просто хочется ей посетовать вслух, убедить и себя и меня, что во всем виноваты не они с мужем, а их выросший сын.
— А Люда как? — интересуюсь я.
Анна Панкратовна сокрушенно вздыхает:
— О Людке и не спрашивайте. За что только нам такое наказание? Не знаю. Как уехала в этот самый… Как его?
— Златоуст, — подсказываю я.
— Вот, вот… Как уехала, так и с концом. Как в воду канула. Где этот город? Шибко далеко? Слышали, будто замуж вышла. А может, брехня одна? Ни с какой стороны никому мы не нужны. Может, дите у нее народится, тогда сгодимся — нянчить.
— А младшая? — спрашиваю я.
— Светка-то? Тоже мало доброго. Выросла прынцесса — дыхнуть боимся. Приедет в субботу — не знаем, что на стол поставить, на что ее спать уложить. Все не по ней.
— Почему принцесса?
— А иначе как назовешь?! Была — вы помните какая? А нынче перекрасилась в рыжую. А нам, старикам, не то что свое мнение сказать, а посмотреть, как хочется, нельзя. Только вошла, шляпчонку скинула и сразу на нас вызверилась: «Вы что, спрашивает, на меня уставились? Или не узнаете?» А узнать-то ее мудрено. Хоть бы написала, предупредила, что так, мол, и так, сменила обличье, а то как снег на голову.
Читать дальше





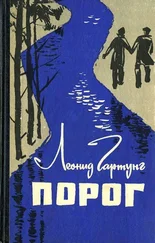






![Леонид Гартунг - Нельзя забывать [повести, сборник]](/books/406023/leonid-gartung-nelzya-zabyvat-povesti-sbornik-thumb.webp)