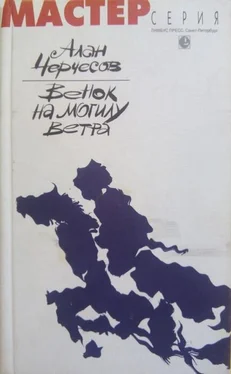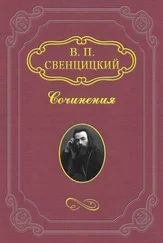Сын родился ровно в срок, спустя девять месяцев, здоровый и голодный, как волчонок. Дед мог бы торжествовать, если бы не поведение бабки, своим молчанием выражавшей неявное, но устойчивое презрение к тому, кого прежде так почитала, но для кого, как оказалось, изношенная ее, но плодовитая утроба значила больше ее высыхавшей в коросту души. Коли тогда она не умерла, застудившись в запруде, так лишь для того, чтобы отплатить ему за унижение подачкой — на, мол, получай то, что хотел. Но только не то, что было.
В некотором смысле, в тот момент дед и закончился. По крайней мере, для судьбы и для нее. А то, что ему еще предстояло столько сердитых несвежих лет, как нельзя лучше свидетельствовало, что месть ее удалась. Еще через четыре года она родила ему сына второго, который для главной фамильной судьбы был совсем уж и не важен, зато — благодаря чему — стал показательно ее любимцем. Чувствуя ее, прячущее торжествующие глаза, неослабевающее соперничество, дед заметно страдал, и досада его была тем сильней, чем намереннее выказывала ему жена свою покорность, граничившую с издевкой. Строптивый сам, но по-мужски наивный, он не умел измыслить ничего, кроме как усмирять ее простейшим жеребячьим способом, а потому спустя еще шесть лет понесла она вновь — от смущенного старика, которому до семидесяти оставалось не более пары годков.
Мести женщины преданны больше, чем собственному желанию жить, так что она, должно быть, ликовала, глядя на свой обвисший и дряблый живот, болтавшийся у нее над коленями шишковатой пазухой, в которой места для новой жизни было чересчур, до страшного много, чтобы вместе с нею радовались муж или повзрослевшие и подросшие дети. В те месяцы, что им еще оставались, дед выказывал жене особое внимание и заботу, словно старался вымолить себе прощение, но бабка была непреклонна — возможно, уже лишь по привычке, а может, из простого желания довести дело до конца и в решающий момент не дать слабину перед человеком, который, доведись ему выбирать между ее унижением и рождением первенца, несомненно, снова бы выбрал второе. Он знал, что она не уступит, однако до последнего надеялся, что месть закончилась и что жена уцелеет.
Она того не пожелала — при родах умерла. Конечно, то был снова мальчик.
Его дед жаловал меньше всех. Даже меньше старшего и, как будто, самого нужного ему, необходимого для того, чтобы отчитаться добросовестно перед судьбой. Среднему повезло больше. Возможно, что и больше сестер: после смерти жены предпочтение перед всеми другими дед явно отдавал ему. Пожалуй, не только из-за нее, а оттого еще, что, в отличие от первого сына, тот получал возможность дожить до дедовых лет и тоже познать, что это такое — проигранная старость.
Конечно, потом, за сорок лет, многое изменилось, и все воспоминания о матери его детей для старика поблекли и отступили перед бесконечной суетой повседневности, но вряд ли его отпускало когда-либо щемящее чувство утраты, потому как в безукоризненной сноровке правильных и неспешных движений его легче было распознать умелое, матерое равнодушие, нежели мудрое и деятельное упорство, свойственное неутомимому сеятелю. Напрасно он изнашивал себя работой: сухое, поджарое тело его оставалось куда моложе брюзгливого морщинистого сердца. Старик не ведал радости, а потому с ним рядом было зябко, как на промозглом ветру, и отчего-то все время хотелось вытянуться в струнку.
Особенно почтителен к нему был старший сын, носивший на бледном и умном лице своем те же глаза. Разница была только в том, что глаза молодого умели смеяться и непритворно любили жизнь; что до дедовых, — они не улыбались даже тогда, когда он оставался наедине с собой и его вдруг начинала отовсюду обступать плавная, вполне равнодушная к мрачности его нрава предрассветная ущельная красота. Разумеется, он намаялся и устал. Еще б не устать — терпеть себя столько лет! Потом настал черед другого…
III
В то, что ему предначертано, казалось, сам он не верил. И только в утро дедовых похорон, распоряжаясь насчет могильного камня, отец сплоховал, невольно обмолвившись, что присмотрел у Горелой пещеры валун песчаника, почти белоснежный, да крупный такой, что и на два надгробия хватит. Не в пример старику, до последнего копавшему, пилившему, строгавшему и топтавшему свои постылые дни, отец торопился жить: смотреть, дышать, удивляться и слушать. Он был прирожденный обманщик.
На розыгрыши его не обижались, а россказням и сочиненным небылицам охотно доверяли — не потому, что был он столь горазд кого-то провести, а оттого, скорее, что в его историях становилось людям чуть уютнее и светлее, чем в простоватой правде их жизней. И когда отец рассказывал про смеющийся крошечный водопад, затерянный в лесу, или хромого горного козла, глумливо пускавшего газы в прицелившегося охотника, рано или поздно кто-нибудь непременно набредал и на хохочущий бурливый источник, и на пукнувшего тура, ушедшего, припадая на одно копыто, от промахнувшегося ловца в зеленоватую дымку расселины. Стоило ему придумать запутавшегося в облаке орла, как они, орлы, тут же множились под ищущими взглядами, увязая полетом в белой пене небес. С маловерами он никогда не спорил и, лишь бегло взглянув в их сторону легкой синеватой печалью, тут же отворачивался, чтоб не оскорбить кого своей грустящей жалостью.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу