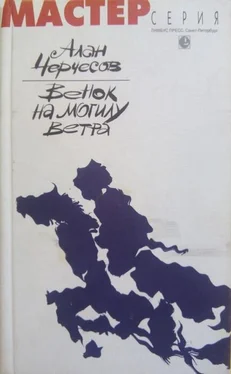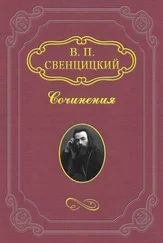Он был счастливый человек. Возможно, потому, что, покуда был молод и весел, умел размышлять о своем недальнем конце как о чем-то внезапном, таком же, как хитрый поворот на самом гребне увлекательного рассказа, отчего тот сделается только совершеннее и прочнее. Его почти вызывающая беззаботность могла объясняться и тем, что линия судьбы их рода чуть запнулась — запятой, как раз перед его, отца, рождением. И разве мог с тех пор хоть кто-нибудь понять, пошел ли в небесный зачет тот недоношенный бабкой зародыш и нельзя ли им подменить звено ковавшейся в горних высях цепи? Иными словами, такая надежда была, а ему, отцу, с его жаждой пить из глубокого кувшина жизни огромными, взахлеб, глотками, этого было довольно, чтобы вести себя так, будто никакой рок над ним уж и не властен. А когда явились на свет близнецы, он уже по-настоящему торжествовал: в вязальном станке судьбы что-то испортилось, дало серьезный сбой, если никому из них, причастных к ней, не удалось разглядеть за спиной у младенцев зависший зыбью призрак их раннего иль позднего конца. Такого уже не бывало не одну сотню лет.
Выходит, отец добился, чего хотел: если и не он разорвет эту проклятую нить, то, по крайней мере, будет последним, кого задушит сплетенная из нее паутина. Обретая смелость улыбки перед лицом судьбы, он дарил близнецам свободу. Рядом с его иль дедовой — почти безграничную. Душой тоскуя по беспредельности плывущих в его воображении пространств, он слышал в них бескрайнюю задумчивость движения, в сравнении с которым смерть была секундным пустяком, никчемною помехой, все равно что мякиш грязи под блестящим солнечным колесом.
Пока был жив дед, отец не боялся. Потом к нему вдруг подкралась болезнь, и ему стало страшно. Им всем стало страшно.
Конечно, ушел он не так, как желал бы. Судьба умела мстить почище бабки: перед тем, как его уничтожить, она медленно и долго погружала его в холодную темницу одиночества, пока он не осознал, что нащупать в ней дно ему не удастся. Его конец был ужаснее дедова. Тот ушел весь, без затей и остатка, исчерпав за сто лет и себя, и терпенье свое, и глаза — так, что жизнь ему опостылела. Дед просто жил и терпел, пока ему не надоело, тогда он заслонился от них молчанием и призвал свою смерть, потому что в этом мире выжил все до последней капли, до запретной пустоты. Ею и объяснялось его равнодушие к тем, кто вместо него остается: они служили ей же, пустоте, только сами еще не знали об этом.
IV
После отца осталась боль. И страх, как знак вопроса. Неужто и вправду судьба настолько сильней? Неужто ее не обманешь? Кого она выберет в старшие, кто будет им: брат или я? Как нас разделить? А может, отцова болезнь была порождением страха? Сомнения в том, что под силу ее избежать? Что если б он вообще не боялся? Да разве возможно такое?
Ответ был неведом, но со дня похорон близнецы изменились. Вдруг сразу сделалось видно, насколько они повзрослели: на целые имена, которыми с того дня они не решались делиться ни на миг, словно отцова смерть застала каждого из них врасплох в самом себе да там и заперла — пожалуй, навсегда. Отныне Аслан и Алан были двое похожих, но разных людей, по крупицам собиравших и бережно складывавших в своей душе робкий опыт различий. Прежде чем что-то сделать, они примеряли возможный поступок на образ второго и, если такой выбор был, поступали иначе, чем поступил бы брат. Так, меняя старые и общие привычки, они обретали те, что нужны были имени, все больше отчуждая себя от своего двойника. Их врожденную близость, зачатую в один и тот же миг и поровну растворенную в обоих сердцах, одолеть было сложно. Чтобы ограничить ее даже самую малость, требовалась воля. Их общая воля, благодаря которой, все чаще удаляясь друг от друга в пространстве, времени и, стало быть, судьбе, они себя убедили, что у них воли две.
Разумеется, они ни о чем не сговаривались: к чему сговариваться, если каждый из них, едва научившись желать, в точности знал, чего желает второй, ибо чаще всего второй желал того же. Задача заключалась в том, чтобы выучиться как раз обратному: не свободно заглядывать в мысли другого, а сделаться настолько разными, чтобы в лучшем случае их угадывать, да и то не всегда. Оба были упорны, порой — чересчур, и тогда доходило до драки. Ровесников по аулу это здорово забавляло: занятно было смотреть на то, как мутузят друг друга два одинаковых человека с одинаковыми телами, одинаковыми лицами и одинаковым стыдом на них, притворно выдаваемым за одинаковую ярость. Дрались обычно молча и до крови, настойчиво метя сопернику в лицо, словно желая раз и навсегда разрушить совершенное, природой дарованное отражение самих себя в том, кто уже тоже совсем его не терпел и, сплевывая кровь, готов был биться до изнеможения с тем же вертким врагом.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу