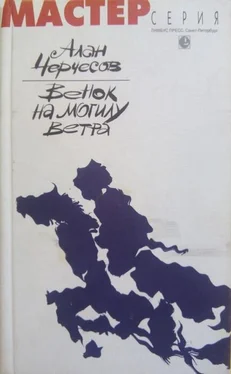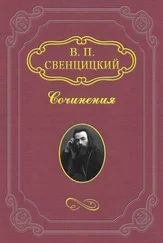— Не знаю, — говорила мать, прикладывая примочки к ранам, — так ненавидеть друг друга только за то, что кормились одной пуповиной… Не понимаю. Конечно, ваш отец бы растолковал, но я не умею.
Ей часто казалось, что в близнецах нет от нее ничего, кроме разве что боли. Да и той в них было больше, пожалуй, чем в ней: в их отце она любила мужчину, в то время как они — загадку и пример.
По непонятной, но веской причине, едва отказавшись от игры в подмену имен и пряток в душе у другого, они стали соперниками во всем, за что ни брались в попытке доказать свое различие. Два повзрослевших кулачка, левый-правый, и оба разом зачесались, — хоть каждый из них, близнецов, безошибочно знал, ощущая тягучей тоской в себе, что не сможет ни с честью победить, ни даже проиграть с достоинством, пока кому-то из них, по прихоти божественного росчерка, не придется уступить, вытянув, наконец, из глубокой шапки судьбы жребий на срок своей смерти. Ее они нисколько не боялись и, если б то от них зависело, вне всякого сомнения, избрали б долю младшего в семье.
Зато в любой работе не было им равных. Стоя плечом к плечу на сенокосе, идя за плугом по пашне или орудуя в сарае долотом и молотком, каждый из них трудился до самоистязания, вынуждая брата так же стискивать зубы, давить в груди вздох и, обливаясь потом, ни за что не уступать.
Им было трудно друг без друга. Стараясь избавиться от этой чрезмерной привязанности, они не упускали возможности расстаться. Выбирая привычку, Аслан чаще всего отправлялся к реке или в лес, а «старший», Алан, карабкался в горы.
V
Сложенная ладонями двойная скала приковывала взгляд и, поджидая солнце, кормила воздух причудливой прибрежной тишиной. Алан находил здесь покой, какого не ведали люди, какого не знал и он сам, едва оказывался среди них.
С ними было тревожно. С ними было так, словно его самого слишком мало, словно ему не хватает самого себя. Порой его обуревало чувство, будто часть его куда-то безвозвратно ушла, и без нее он — что чужак в самом себе. К двадцати пяти годам он понял, что скоро себя потеряет. Это странное ощущение было сродни тому, что испытал он в тот момент, как выучился плавать: внезапно выяснилось, что его тело умеет гораздо больше, чем ему до сих пор дозволялось. Оно умело открывать в себе стихию — неожиданного постижения спрятанных на самом дне бессознательной памяти навыков и умений, в сравнении с которыми привычные обретения его мужающего разума казались не более чем смешными подделками под то, что составляло суть главного, незаменимого знания, ради которого он прожил годы в предвкушении события, что навсегда вернет ему самого себя и позволит примириться с братом.
Скала, рассеченная надвое, служила посредником между его, Алана, сердцем и солнцем, сердцем небес. Он чувствовал, что должен внять посылу, который все еще не в силах разгадать, но чьим приметам, сиянию, свету он радовался всей душой, растекаясь ею по бескрайности царившей вокруг тишины, что вышивала солнечным лучом согласие реки, камней и леса под этой дышащей и чистой синевой. Лежа у воды, оглушенный прекрасным видением солнца, вмиг воссоздавшего целостность там, где только что была дыра и пропасть, он постигал себя. И первое, что ему открывалось, — его несомненная близость к той сокровенности и правде, которую можно было принять разве что за саму вечность или за самый стержень ее, — ибо была она вне времени, больше времени и много старше его, хотя и несказанно молода, моложе всякой мысли, но — и мудрее. Правда о мире был сам этот мир. Вот это солнце и эта вот скала…
Они были дороже родного аула и тех, кто его населял. В их присутствии он, Алан, никогда не мог отпустить свою душу бродить без присмотра по улицам, домам, желаниям и помыслам других людей, чьи собственные души были накрепко привязаны к их бдительным рукам, стиснуты скулами, распяты в темноте, шнурованы в суровом платье, подбиты мягким мехом или пойманы надежной теснотой, хранившейся у них за пазухой. В те редкие минуты, когда, расслабленный внезапностью покоя, похожего на тот, что он принес в себе с горы, Алан не успевал за нею уследить, его душа ускользала из наглухо запертых стен и отправлялась в путь. Иногда он отыскивал ее там, где было грязно и нехорошо, а то и опасно, и тогда, испачканную и возбужденную, он долго утешал ее, остужая прохладой терпеливого одиночества, пока та не погрузится в сон.
К двадцати пяти годам он так и не позволил ей понять, способна ли она любить, а потому его познание женщины ограничилось лишь ее телом, податливым и мягким, как обман, из которого можно было выбраться почти без потерь, если довериться буйному бесчинству плоти, а не надменности разума.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу