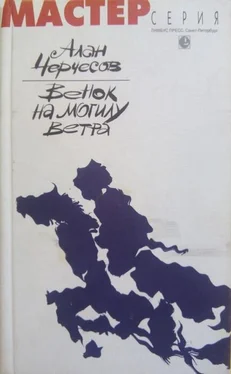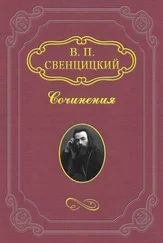Отец был несказанно рад, еще бы — два близнеца! Мало что первый случай в роду, — какая выдумка естества, какой остроумный обман! Гордость его в те дни была беспримерна, а ликование заразительно, только дед, казалось, его никак не одобрял: слишком долго ходил у судьбы на поводке, чтобы уверовать в ее нерасторопность. Отец же с наслаждением играл в их имена. Сперва порывался дать одно на двоих, был согласен на любое, лишь бы было мужское и не звучало, как кличка. Довод его сводился к тому, что их и вправду было не различить. Стоило переменить пеленки, и уже собственная мать терялась в догадках: левый — правый, первый — второй, а может быть, наоборот…
Однако старик ему строго-настрого запретил, растолковав, что мужчина, мол, на то и мужчина, чтобы именем дорожить, как лицом своим или честью.
— Лицо-то у них вроде одно, — пытался было возразить отец. — Да и честь общая…
— И общий отец, — добавил дед, а глаза его сверкнули гневом, — на которого когда-то впустую целое имя перевели. Проще было юродивым обозвать.
Так что отец лишь пожал плечами и подчинился. Но как бы не до конца, снабдив их именами, в которых только и было разницы, что крошечная подковка звука, еле отличимая запинка, колючка в теле слова, которое теперь так просто было тасовать с другим. Отец ведал, что делает, потому что, едва они немного подросли, любимым развлечением и баловством их оказалась игра в подмену имен, которые сами взрослые к тому времени успели смешать столько раз, что уж никто всерьез и не надеялся, что первенцем и вправду был Алан, а тот, кого спустя минуты кривая повитуха положила справа, — тот Аслан. По сути, вопрос заключался не в том уже, как одного распознать от другого, старшего от младшего, а в том, чтобы имена к ним хоть немного «прижились» и пометили их сознание тенью личностной памяти, благодаря которой если не лица их, так взгляды, выраженье глаз помогли бы отличать их лучше, чем надетая с утра одежда. Меняться ею значило меняться именем, желаньями, душой, потому как детская душа и есть ее желания. Отец их в этом поощрял, притворяясь, что не замечает нехитрых их уловок, в которых сам был несравненно изобретательнее.
Как-то раз, призвав к себе жену, он потребовал поднести зеркальце. Подняв его перед одним из близнецов, спросил, что в нем и кто это там прячется. Тот удивленно вскинул брови, потрогал скользкую, прохладную на ощупь лужицу и, убедив себя, ответил:
— Брат.
Проделав то же самое со вторым и услышав такой же ответ, отец, очень довольный и возбужденный, заявил, обращаясь не столько к следившему за ними деду, сколько к их матери:
— Смотри-ка, для них жизнь ровно вдвое глазастее, чем для нас с тобой. Потому что каждый из них для другого — это он сам и есть, только такой, что на него еще можно и со стороны поглядеть. Брат для них всегда ловчее, чем тот, кто только сидит у них в голове и следит за ним изнутри. Оттого-то каждый из них и признал в зеркале не себя, а другого, хоть этот другой и стоял в трех шагах от него. Стало быть, другой для них всегда умеет больше, чем тот, что внутри. И может, больше значит. А потому никак ты их не удержишь…
Он замолчал, а дед, не дождавшись, что тот объяснит, не утерпел и спросил:
— Отчего это их надобно удержать? Уж не от зуда ли всех кругом дурачить? Так то ведь им по наследству досталось…
Отец погрустнел и искоса поглядел на старика своей чистой, прощающей синевой. Тот смутился, наткнувшись взглядом на его спокойное сочувствие, в котором достоинства и мудрости было больше, чем в неуклюжей дедовой ревности, питаемой к сыну с тех пор, как старик превратил свою жизнь в своего же соперника, на цельгс полвека вперед отгородившись упрямством от мести женщины, что так и не сподобилась ему простить даже после собственной смерти.
— Нет, — сказал отец. — Они не дурачат. Они становятся друг другом, а потом — снова собой, чтобы тут же опять поменяться местами и стать для себя интересней. Им так лучше. Они лишь делают то, что остальным не под силу. В конце концов они это бросят — может, потому что надоест, а может, оттого что мы внушим им стыд. На самом деле мы им просто завидуем. По крайней мере, я…
Будь его воля, отец бы и впрямь превратил свою жизнь в игру: в игре всегда есть цель и смысл. И в ней есть правила, которые понятны и разумны. Есть пыл борьбы, погони, бегства, есть охотничий азарт. И только смерти нет. Та в ней лишь понарошку.
Пока был жив старик, его тщедушная, но резвая поджарость была прикрытием, защитой от судьбы, которая, пока старик был жив, томилась им, а не отцом. Пока старик был жив, он нес ответственность за все, что делал, потворствуя капризам неба, и свято верил в то, что прав. Так было легче: идти по намеченной свыше дороге, а не бежать наобум сквозь туман, даже если в нем примерещилась радуга. Отец предпочитал не вымощенную судьбой дорогу, а мерцающую заманчивым многоцветьем дугу. В отличие от деда, отец не верил, а знал, что прав. И если старик возроптал на жену, не сумевшую с первого раза уберечь в своей утробе долгожданный росток послания свыше, то отца хватило на большее: отважился он восстать против ниспосланного ему удела, предпринимая все, чтоб доказать, что следовать за радугой надежды достойнее и лучше, чем прозябать под брюхом у судьбы.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу