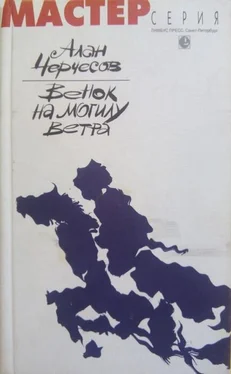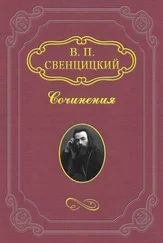Теплый ветер подул вдруг с реки и принес запах снега. Хамыц видел, как, отирая с надбровья пот, Ацамаз упрямо глядит на ухмылку врага. «Коли он дьявол, этот Цоцко, — подумал Хамыц, — у меня на руках сидит его сестра, а она-то, скорее, как ангел!»
Гулкий, эхом наполненный, почти что утробный крик заставил его содропгуться. Хамыц прислушался. Да, так и есть. Голос выл, разнося за собой по ущелью одно только слово: «Отр-р-рава!.. Отр-р-рава… Отр-р-рава!» Ребенок, казалось, не обратил на него никакого внимания и все так же спокойно и прямо смотрел Хамыцу в глаза, словно ждал от него ответа на простой и честный вопрос.
— Вот ведь как, — произнес где-то рядом Туган. — Не впрок ему ваша еда. Или дело в воде?
— В ней, пожалуй, — ответил Хамыц и, вместо того чтобы передать ее дяде, подбросил девочку вверх, услышал радостный смех и только тогда поставил ребенка на землю.
На рукав ему тихо упала снежинка — зима!..
I
Там, где смыкались ладонями две скалы над рекой, солнце готовило для себя короткий привал. Выскользнув из-за гор и зависнув в глубоком разрезе ущелья, оно подплывало к двойному острию почти соприкоснувшихся плит, напоминавших то ли завалившиеся надгробия, то ли расколотую пополам терпеливой суетой воды вершину. Нанизав свою призрачную плоть на два равных каменных выступа, солнце слепило в лицо буйным свечением, из-под которого постепенно на радужной оболочке глаз сквозь ажурную кромку разноцветной травы прорастало черное пятно круглого отражения. Оно оставалось тлеть на изнанке век еще несколько влажных минут, пока отлиняет в тень эта дивная и четкая симметрия, сложенная из безупречного яркого шара, обрызгавшего сотней бликов разгневанную воду под собой, и жесткого холода каменных плит, внезапно спаянных — на миг — звенящей лавой света. Длилось это и впрямь какие-то мгновения, минуту, а может, меньше даже — несколько глотков вдруг настежь распахнувшегося, чистого, упругого и девственного времени, проникшего эхом в самое сердце и задышавшего в нем щедрой волной. Мир словно поднимал завесу над своей главной и простой, как этот миг, загадкой: он был прекрасен, правилен и добр. Ради того, чтобы в том убедиться, стоило идти сюда полдня по турьей тропе, царапая руки в кровь и портя одежду, а потом, дождавшись и причастившись солнечной мудрости, уже на закате, спуститься ближе к реке и устроиться на ночлег в полумраке неспелой луны и полушаге от звезд, чтобы после, слушая нестрашную темноту, заснуть в полумысли от невозвращения — в себя самого и в грядущее утро, которое призовет обратно к тем, кого было так трудно понять и с кем было легче расстаться, чем поладить душой.
Да, с людьми было куда как труднее. Они не знали, что такое покой. Но рано или поздно он их все равно настигал. И даже дед его, проживший сто семь лет и ни разу за весь этот срок не повысивший голоса, словно признал это, когда поднялся напоследок на участок земли, до самых сухих, укромных недр своих насытившийся его потом. Дед вышел на середину делянки, хмуро поглядел по сторонам, увидел ясный желтый день, обвел прозрачным взглядом каждого из сыновей, племянников и внуков, в раздражении поморщился, затем, словно ища глазами выход из прижавшей его тесноты, тревожно посмотрел на ущелье и горы, однако не нашел, чего искал, опустил лицо, отрешенно уставился в землю, и им всем почудилось, что теперь его точно уронит, качнет или с корнем вырвет от них, но, едва переведя дух, он поднял голову и равнодушно так произнес:
— Устал я очень. Жить намаялся.
Отбросил под ноги мотыгу и твердой походкой пошел умирать. К утру он с жизнью справился, стерев с лица ее последние следы, кроме тех, что пригодились смерти, и стал похож на сам окропленный туманом рассветный воздух, в котором, как водится, было больше слепоты, чем солнца, а памяти меньше, чем в истаявших искрах звезд. Едва умерев, он перестал быть старым, потому что старость (тогда, стоя у гроба, они это поняли) — не что иное, как затянувшаяся схватка с жизнью без всякой надежды победить, — хотя бы оттого, что позабыта, утрачена цель.
Чтобы смириться, ему понадобился целый век — сто лет тяжелого упорного труда без права на болезнь и бунт, без права на отчаяние и слабость, — лишь размеренная череда скользящих сквозь нескладный разум дней, послушно следующих за раз и навсегда установленным круговоротом движения, привычно называемым судьбой. Судьба зачиналась прежде, чем сам человек: она готовилась загодя, вытягиваясь исподволь в бесконечную цепь странных событий, весь смысл которых, непостижимый до внятных глубин, сводился к тому, что небо не бездействует и сочиняет за людей их собственные жизни.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу