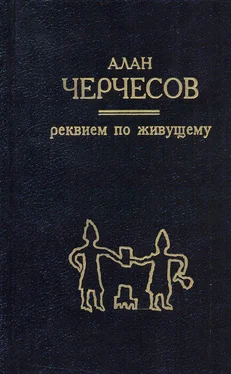Стало быть, чудище отощало и очеловечилось». —. «Похоже, что да, — ответил дядя. — Не забывай, однако, что я, к примеру, лишь сейчас это понял. За других же вовсе не поручусь». И тогда я спросил: «д было ли оно и вправду уродом, то чудище?» — «Э-э, неодобрительно взглянул он на меня, словно я оказался глупее, чем он думал. — Это и по сей день никому не известно. И уж не знаю, будет ли известно когда потом...»
На том наша беседа и закончилась, а я размышлял: зачем Одинокому понадобилось верить в предсказание? Я долго не находил ответа. Я думал над этим так упорно, что натер на мозгах мозоль, я чувствовал, как она растет, набухая, под черепом и нудно, противно свербит. А потом ее прорвало, и я вдруг понял: он ждал расплаты.
Одинокий ожидал расплаты. Сперва он сделался свободным, потом свобода его покорила, превратила в своего раба, приказала ему вмешаться в нашу жизнь и спорить с уготованной аулу судьбой, потом он надорвался от свободы, превратившейся для него постепенно в какую-то дурную, невольную, порочную необходимость, и едва уже сносил ее охоту во времени, за временем, но чаще — на само время и против него. Он просто чувствовал, что должен быть конец, и уже успел натворить на пару со своей свободой столько, что конец этот вполне мог оказаться расплатой. И потом, он ведь больше других имел оснований догадываться, что это такое — «спрятанная кровь», и даже знал, где она может быть спрятана, — если, конечно, о смысле этих слов он догадывался верно. Только наверняка-то он покуда не знал, о какой все же крови идет речь: о той, пролития которой пытался он избежать (и здесь было два ответа: Рахимат и Барысби), о той, что уже пролилась (ответов здесь было тоже два: Сослановой дочери и помощника лавочника, а почему и их кровь «спрятанная» — так это потому, что истину о ней он так до сих пор никому полностью и не открыл), или о той, что еще прольется (тут сосчитать возможные решения не в состоянии был никто). А может, предсказание было еще хитрее и указывало разом на кровь уже пролитую и еще нет, спрятанную в земле и на земле, назначенную на будущее и забытую в прошлом. А может, было оно хитрее и коварнее настолько, что имело в виду кого-то одного, ну хоть его самого? Ибо что, в сущности, означает «спрятанная кровь»? Спасенную жизнь или отсроченную месть? А может, отсроченную месть за чью-то спасенную жизнь? Или, может, это только спасенная отсрочкой месть?
Как бы то ни было, а в Сослановых словах заинтересовал его привкус грядущей расплаты. Да и дядя мой, опять же, не случайно тогда про утраченные запахи упомянул: говорил-то он обо всех скопом, включая Одинокого! Выходит, и тот его растерял — запах вечности. Только, думаю, в отличие от остальных, его обоняние было куда острее, потому-то в странных пророчествах Сослана оно и учуяло смысл, и смысл этот свело к предстоящей расплате за его, Одинокого, деяния. Ну а что такое настоящая расплата, как не посланье из вечности? Стало быть, если он и утратил ее запах, то по крайней мере умел слушать брошенное ею в суету мудрое эхо, и эхо это его насторожило. «Оскудел», пояснил мне дядя. Теперь-то я понимал, что «оскудел» он своей уверенностью, своей незаботой о том, что может и проиграть. Да и как иначе, если отныне он жил со знаменьем, посланным ему отвернувшейся от нихаса вечностью, которая настойчивым и тревожным эхом грозила предъявить ему счет!.. Он осознал вдруг, что ему брошен вызов, и решил этот вызов принять, невзирая на силу, опыт и искушенность противника. В общем-то, размышлял я, то был единственный способ сразиться с вечностью и судьбой. Все другое было попросту бегством. А на бегство он был не способен больше еще, нежели на поражение.
И потому сейчас, украв Рахимат, отвезя ее в крепость, спрятав от смерти в публичном доме, где только и можно было ее оградить от глаз аульчан, ни у кого из которых не хватит ни денег, ни смелости, чтобы проникнуть в стены таинственного здания, обслуживающего грех, откуда сам он только что вернулся, впервые познав там женщину и вкусив из густой ночи пряной ее красоты, а потом, обманув друга, крал вторично за неполные трое суток, выехал на рассвете из крепости и сунул ворованное добро в первый попавшийся по дороге можжевеловый куст, чтобы через год, когда враг его друга уйдет из аула (и уйдет живым, позволив моему отцу не стать убийцей), у его друга нашлось доказательство его неворовства, а у истории — доказательство ее искренности; сейчас, когда Одинокий, сплетя узлом разноцветные нити чужих жизней, возвратился домой, взошел на нихас и услыхал пророчество, сначала он воспринял его как свидетельство важности спасаемой им истории и испытал своего рода гордость за то, что пророчество обещало ему в отместку за содеянное страдания да худой конец. Но тут же вспоминал, чтó говорило оно устами слепого Сослана о нашей земле и ожидающей ее страшной участи, и ему делалось крепко не по себе. Наверно, он утешал свою совесть тем, что и пророчества не полностью сбываются или что частенько неверно понимаются внимающими им простыми смертными.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу