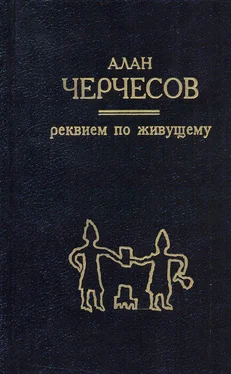И он глядит на то, как огоньки внизу шныряют по мутной хляби, словно играют друг с другом в нехитро замысленную игру, и по стойкому плотному эху понимает, что дождь кончился. А потом один огонек желтеет желтее других и толчками уходит от остальных, по зыбкой дуге придвигаясь ближе к расселине, а на отцовом лице немеет холодная маска из пота и крови, и из мерцающего огонька выжелчивается огонь, а после нанизывается на ветку факела, из которой мигом, как дым из трубы, вычерчивается согнутая рука, а потом — зыбкий обмер лица, туловища, ног...
И отец узнает: «Кто же еще! Ну конечно, больше ведь некому...» И зачем-то считает шаги Одинокого, а когда насчитать остается лишь пару десятков, тот замирает и пристально смотрит вперед, слегка наклонив туда пламя, так что отец думает: «Вот и свершилось. Теперь закричит, и те сбегутся. Будь ты проклят, шайтан...»
Но тот не кричит. А потом не кричит так долго, что в сознание отца проникает сомнение: «Неужто мне снится?.. И проверить-то никак нельзя. Разве что самому голос подать...» Но на это он не решается, благоразумно рассудив: коли сплю, так это лишь собак дразнить, особенно если глотка подведет и выйдет громко, а коли воочию вижу, так пусть сам он и зовет, за тем, поди, сюда и взобрался...
Только Одинокий все молчит, не меняя позы, и отец видит, как прямо на глазах сумрак заплетается в ночную темень, лишь ее середка топорщится на ветру беспокойным пламенем с торчащей ветки в призрачной руке и озаряет странный отцовский сон (в том, что спит, он уже почти уверен), а потом пламя описывает полукруг во взлохмаченной туманом мгле и крошится в пространстве шагами, теперь уходящими прочь, и постепенно обретает прежнюю свою, послушную и маленькую желтизну, и скоро он, отец, снова погружается в тяжелую клейкую дрему, и тихо постанывает, перемогая боль в ребрах, ладонях и мелкую-мелкую дрожь. Он крепче обхватывает себя за плечи, подтягивает колени к груди и дряблым неспокойным сном своим слушает, как вместо кашлявшего эха гудит в ночи погасший сильный ветер, скобля студеным боком истертый зев расселины. Комками, нехотя и в никуда ночь отслаивается сквозь сторожащий всякое его пробуждение щербатый пролаз в скале и на какой-то звонкий миг оправляется от безалаберной и склочной лихорадки, чтобы сразу же опять (будто в запруде ясная вода и вдруг — круги от брошенного камня) заплыться суматошными и дергаными бреднями.
А в это время Одинокий, впервые за долгие и проигранные нами годы снова открывший нашу калитку, увещевает деда обождать, не торопить свой траур. «Верь мне,— повторяет он, ловя его глаза, словно пытаясь подпереть старика своим взглядом.— Кобыла — да, чужак — да, повозка — тоже, но только сына твоего там не было. И даже в сердце незачем хоронить, не то беду накличешь...» А тот лишь беззвучно шамкает ртом и нетерпеливо томится локтями, не выпуская палки из пальцев, и Одинокий тогда говорит: «Ну хорошо, если уж не убедить, так хоть попросить тебя мне дозволено? Дай мне неделю, и я докажу. Семь дней, начиная с завтрева...» Но, углядев в глазах старика воспрянувшую был надежду (иль подозрение — не разобрать) , поспешно добавляет: «Нет-нет. Не понял ты. Я ничего не знаю. Не знаю, но вроде как чувствую... Всего одна неделя, да и никто тебя за это упрекать не станет, верно? Я отправляюсь с утра». И, глядя на то, как дед повел головой — неловко и косо: вниз и вбок, словно вместе «да» и «нет» в бороде протащил,— с деланным облегчением заявляет: «Выходит, сговорились, через семь дней свидимся... Ну, бывай! Бог нам в помощь...»
А выйдя из хадзара, на дворе отыскивает в толпе моего дядю и кивает ему: «Тебя старик зовет. Соседей лучше отпусти, хоронить покамест в твоем доме некого...» И направляется к себе, и первое, что делает — идет в погреб, чтобы собрать еду в хурджин и наполнить бурдюк аракой.
Но в эту ночь он не пьет. Он кладет в хурджин огниво, ссыпает на ладонь из кожаного плоского мешочка медь с серебром и, пересчитав, возвращает все обратно, а сам мешочек вешает на грудь. Потом направляется в конюшню задать жеребцу сена и после, взнуздав его, прилаживает к седлу факел. Он трудится размеренно. В этой уверенной в себе размеренности он коротает время, а скоротав, идет к погосту, оставив жеребца на дворе привязанным к коновязи и поленившись прихватить с собой огонь. И ноги его скользят и вязнут на тропе, когда он минует нихас, и мне неизвестно, о чем он там думает, когда припадает к могильным камням. Не знаю, о чем говорят им руки его и молчание да только, пожалуй, мало кому это важно, разве тому лишь, кто, обмотав черным башлыком лицо, следит за его тенью из укрытия, спрятавшись за одной из надгробных плит и впиваясь слухом в рыхлую кладбищенскую тишину. И не знаю наверняка, чует ли его испуганную близость Одинокий, во всяком случае он виду не подает, но думаю, что в эту ночь с могилами советуется молча, оно и правильно: к чему им тут слова? Достаточно того, что он приник к ним сердцем.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу